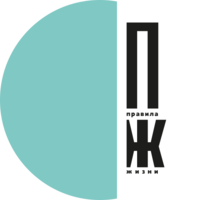Тихое место: как живут и во что верят в русской деревне
Часы на здании нелидовского автовокзала показывают слегка за полночь. Некогда крупный шахтерский город, Нелидово стал призраком, прикованным к месту цепью закрытых предприятий — хлебокомбинатом, мебельной фабрикой, кирпичным заводом, типографией, санаторием «Горняк», несколькими ДК... Проще сказать, что в Нелидове еще не закрылось. И все же отсутствие привычной суеты кажется странным, звездное небо над головой — невероятным. Можно было бы, по Канту, ощутить кольнувший ребро острой иголочкой моральный закон внутри, да только ноги после шести часов в автобусе ноют сильнее. Еще полчаса (от Нелидова по дороге на Белый — и повернуть направо), и мы на месте, в селе Монино, что лежит на левом берегу реки Межа. Тишина здесь оглушает. Впервые понимаешь: далече забрели путники, и получится ли выбраться — решать не им.

История Монина богата и удивительна — земли эти теряются на перепутье Литовского и Бельского княжеств, Смоленской губернии и Тверской области. Очень настоящее и совершенно сказочное, Монино за века сплетает вокруг себя причудливое пространство магической реальности. Но Руси былинной и первозданной, где по болотам бродят хтонические чудовища, а сквозь вздохи леса пробивается скрип костяной ноги старухи, сгубившей не один десяток путников, не ждите. Удивительным образом бытование Монина отсылает нас к затерянному в колумбийских лесах и совершенно вымышленному маркесовскому Макондо: несколько лет назад цыгане тоже «в мгновение ока <...> перевернули всю жизнь поселка», всякая вещь здесь живая, если «суметь разбудить ее душу», а воздух, когда зарядит безрадостный дождь, бывает «настолько пропитан влагой, что рыбы могли бы проникнуть в дом через открытую дверь, проплыть по комнатам и выплыть из окон». В конце концов, мир в Монине всегда казался «таким новым, что многие вещи не имели названия и на них приходилось показывать пальцем». А здравый смысл и десяток тысяч километров, разделяющих Монино и Макондо, становятся лишь предлогом крепче стоять на земле и приземленно смотреть на действительность. Предлогом, надо сказать, совершенно неубедительным.

Одной из немногих осязаемых вещей, за которую по первости приходилось держаться, стали координаты (56.06376, 32.80947) церкви Рождества Пресвятой Богородицы — величественной, старинной, построенной в 1758 году на средства поручика лейб-гвардии Ивана Нелидова. Впрочем, к ней, стоящей на высоком холме, и без навигатора приведет любая монинская дорога. Аккурат напротив — колония строгого режима ИК-9. Если забраться повыше на строительные леса, поддерживающие колокольню, видны смены часовых на наблюдательной вышке. При колонии — еще один храм, Георгия Победоносца, построенный без единого гвоздя. Говорят, что они словно бы отнимают друг у друга силы: начинают латать одну церковь — разрушается другая.
По весне, когда все вокруг заливает вышедшая из берегов Межа, местные любовно называют этот клочок земли своей «маленькой Венецией». Здесь тоже тихо, да так, что кажется, будто из мира исчезли вообще все звуки. Но тишина эта не гнетущая — благословенная. Отец Александр, чьим заботам вверен монинский приход, считает, что только так можно услышать Бога: «Когда приходишь сюда, в храм, можно поймать ту самую тишину. А голос Божий – это самый тихий голос во вселенной»


Чтобы услышать Бога, нужно преодолеть лестницу из сорока ступеней. Внутри церкви оживление: к молебну установили лавки, расставили иконы, принесли аналой. Кругом леса, песок, кирпичи. От порывов ветра вопросительно дрожат свечи. Под сводами гулко разносится проповедь отца Александра: «Как воссоздаются храмы — пусть воссоздаются наши души».

Воссоздается храм силами местных добровольцев, которым удалось за прошедшие семь лет сделать почти невозможное: расчистить землю, освободить кровлю от поросли, вытащить пули из фресок святых. История церкви святой Богородицы тяжелая. В угоду богоборчеству ленинизма ее разграбили, сбросили колокола и разобрали алтарь, оставив медленно разрушаться. В годы оккупации превратили в оборонительный пункт — при немецком авианалете фугасная авиабомба пробила крышу и уничтожила притвор. Останки погибших советских солдат поднимают до сих пор. Иногда монинским волонтерам помогают ребята из Бердска, приезжающие каждое лето в эти края на поисковую экспедицию. Как церкви вообще удалось уцелеть — загадка. «Божий промысел», — пожимают плечами местные.

Отец Александр уверен, что восстановление любого храма — почти как рождение ребенка: «Храм и сам по себе дарует жизнь, и является плодом трудов многих-многих людей. Кто-то молитвой, кто-то усердием, кто-то копеечкой — все потихоньку созидают. Я иногда приезжаю сюда, когда здесь никого нет — просто осмотреться, помолиться. И здесь, внутри, мне становится просто страшно — кажется, что восстановить все это невозможно, настолько сильны разрушения. Ну и потом — финансы, людей мало. Но все пытаются хотя бы немножко помочь. И это чудо — по-другому не назовешь. Чувствуется, что здесь действует сам Господь»

Сердцем волонтерского движения «Русская деревня» стала хрупкая девушка Анна, для которой возрождение церкви и своего родового села — смысл жизни. Почти все — на свои деньги. Сложностей и проблем много, но, рассказывая о том, что уже сделано, и о том, что только предстоит, она вся будто светится. Параллельно Аня успевает накормить всех волонтеров, уделить внимание каждому, кто пришел помочь («Рома, тебя сфотографировали, или ты там прячешься опять?») и поруководить импровизированной бригадой («Ну что, артиллерия, давайте — берите перчатки, начнем доски разбирать»).

Рядом бегает ее дочь, Полина, хотя все чаще здесь ее зовут мышкой-малышкой — удивительной непосредственности ребенок: вот она естественно позирует на камеру, а буквально через секунду, смутившись, прячется за маминой юбкой. Полина растет в церкви, воспринимая все как чудо и послание. Когда в колонии напротив звучат сигналы оповещения, Поля радостно поднимает глаза на маму: «Это с нами Боженька разговаривает!»

Вокруг трех слагаемых — колонии, церкви и школы — жизнь в Монине строилась с 60-х годов прошлого века. «Концентрат греха и святости, Россия в миниатюре», — кивает батюшка. В какой-то момент из этой геометрической фигуры вытащили важное звено — школу перенесли в соседнее село. Из равнобедренного треугольника, более или менее устойчивого, Монино превратилось в тонкую линию, которую постоянно латают местные жители, не давая этой ниточке разорваться окончательно.
Закладывая кирпичи в стены церкви, волонтеры не просто восстанавливают объект культурного наследия — создают вокруг живое пространство, чтобы в Монино хотелось не просто приехать, а остаться здесь навсегда. С почти материнской нежностью Анна воспитывает и наставляет подростков-волонтеров: летом у них продолжается учеба, но уже в Школе архитектуры, культуры и искусства, открывшейся там же, в пространстве церкви святой Богородицы. А после тяжелых трудов — сплав на байдарках. Через какое-то время, вероятно, и они, выросшие, уедут в большой город: Москву, Петербург, Смоленск, Тверь — кому какой выпадет. Но обязательно вернутся — родная земля притянет.

Время и пространство в этих краях относительно и условно: в несколько дней, проведенных в Монине, уместились километры дорог, часы разговоров и столетия истории, тщательно и любовно собранные по крупицам местными краеведами. Хронотоп этой сказки то спокоен и понятен, как река вокруг Макондо, «которая несла свои прозрачные воды по ложу из белых, гладких и огромных, как доисторические яйца, валунов», то хаотичен и извилист, как полноводная Межа, и дотягивается одним из своих притоков, рекой Березой, до отдаленного пряничного домика — усадьбы Матренино.
Еще недавно она — пустынная, осиротевшая, смотрела в небо провалами крыши, едва-едва прикрытыми баннерами. От былого блеска не осталось и следа: дом то пустовал, то приютил сирот в войну, став интернатом, то превратился в пионерлагерь — пока снова, в нулевых, не опустел окончательно. И вдруг, несколько лет назад — не иначе как очередное чудо — у Матренино появились любящие хозяева, вдохнувшие в усадьбу жизнь.


Волонтеры «Русской деревни» знают тут каждый камушек — когда усадьба была детским домом, здесь работал поваром дедушка Анны. В Матренино можно, как в детстве, носиться с гиканьем среди неразобранных еще деревянных летних домиков с едва различимыми надписями времен счастливого пионерского детства («Здесь живут веснушки!»), дышать до головокружения полной грудью, пережидать солнцепек под яблоней или вслушиваться в тишину — созидательную, позволяющую заглянуть вглубь себя. И когда тишину эту нарушает скрип тяжелых дверей, становится понятно, что залы внутри еще помнят приемы, которые устраивали прошлые владельцы, Огонь-Догановские. Одному из них, Василию Семеновичу, подпоручику Петербургского драгунского полка, а еще известному кутиле и шулеру, однажды на веселом вечере вдрызг проигрался сам Александр Сергеевич Пушкин, задолжав баснословную по тем временам сумму — 25 тысяч рублей.


Бывал ли Василий Семенович на залитой светом веранде усадьбы Матренино — неизвестно, но, по слухам, именно он, «человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности» стал прообразом Чекалинского в «Пиковой даме». Вокруг Матренино вообще ходит много баек. Это название встречается в метрических книгах церкви села Монина с 1758 года, но местные любят рассказывать красивую легенду о возлюбленной помещика Резникова — крестьянке, бывшей у него в услужении. И так сильна оказалась их любовь, и так неважен мезальянс и досужие сплетни, что с тех пор Матренино названо по имени прекрасной Матрены. А коль скоро у Маркеса была волоокая Ремедиос, появление женщины в этой сказке — лишь вопрос времени.

Библейский ветер стер с лица земли Макондо через сто лет, заглушив голос шести поколений — любивших, страдавших и мечтавших о прощении и справедливости. Все тот же библейский ветер, добравшись до удивительного Монина с его причудливой географией, где «у путника, нечаянно забредшего в эти края, появляется то самое блаженное ощущение необъятности пространства», подхватил молитвы, почти осязаемо висевшие в воздухе, и вдохнул в эти места жизнь, как пророчествовал Иезекииль. Монино — наш национальный миф и повествование об истории своего народа. Этот особый, монинский мир не кончается, и чудес в нем еще предостаточно. Но всегда, как и у Маркеса, «единственной и вечной реальностью в нем была любовь»