Когда оркестр отыграл «Ich küsse ihre Hand, Madame» (венские вальсы непременно исполнялись на балах в английском посольстве*, как на балах в посольстве Германии обязательно звучали песни Коула Портера и Ноэла Кауарда), мадам Луначарская, супруга народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского, замерла посреди зала.
Москва 1930-х годов — в воспоминаниях итальянского писателя Курцио Малапарте: фрагмент романа «Бал в Кремле»
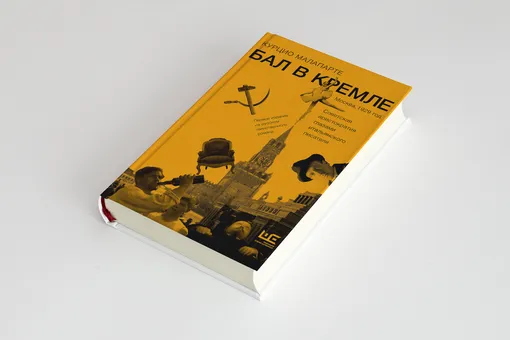
— Где же Алексис Карахан? — спросила она, оглядываясь. Держа левую руку у меня на плече, а правой поправляя на висках черные, слегка вьющиеся волосы, она быстро прибавила: — Вы не находите, что Семенова строит из себя Кшесинскую?
Кшесинская была последней великой балериной царской эпохи и, как говорили, любовницей Николая II.
— Почему?
— Она и сегодня опаздывает. Считает, что заставлять себя ждать — особый шик.
— А я и не заметил, что она опаздывает.
— Вы больше в нее не влюблены? — поинтересовалась мадам Луначарская, насмешливо глядя на меня.
— Вам прекрасно известно, — ответил я, — что я влюблен в вас.
— По Москве ходят и такие слухи, — сказала мадам Луначарская, — впрочем, Москва — город сплетников.
Оркестр заиграл «Wiener Blut», и мадам Луначарская томно оперлась на мою руку.
— Когда вы возвращаетесь в Париж? — спросила она, поворачиваясь к дверям и позволяя мне ее вести.
— Наверное, я задержусь в Москве еще несколько недель, — ответил я, — хочется увидеть русскую весну во всей красе.
— Русская весна не стоит парижской весны, — сказала мадам Луначарская. — В октябре я была в Париже: выбирала костюмы для комедии, которую играю всю зиму. Это платье — от Скьяпарелли, — прибавила она, — надеюсь, что уж вы-то не станете меня бранить.
По правилам советских театров актрисам запрещено выходить в свет в нарядах из театрального гардероба. Однако Семеновой, Луначарской, ***, самым знаменитым актрисам советского театра и кино было наплевать на правила, они выходили в свет в костюмах из театральных гардеробов, даже не догадываясь, что бросают вызов не столько официальным правилам, сколько нищете, в которой жил весь народ.
Платье было чуть тяжеловатое, чуть барочное, — известно, что мадам Скьяпарелли подражала складкам тканей на рисунках Микеланджело, драпировкам статуй Кановы, римскому барокко в манере Доменикино, в котором цвета напоминают тени деревьев у Пуссена и лазуревые тени Коро. Мадам Луначарская была брюнеткой с бледной кожей, с чуть грубоватыми чертами лица, словно увиденными через лупу. Черные глаза были выпуклыми, как будто их распирали чувственность и злость, они совсем не походили на светлые стеклянные глаза русских женщин из народа. Глаза из плоти, в которых все казалось не отраженным, а словно бы вытатуированным. Черные брови — не выщипанные и не тонкие, а будто нарочно подчеркнутые карандашом — отбрасывали смутную тень на эти глаза из плоти, на ночные глаза, в которых ленивая и сладостная чувственность светилась, словно ночник в спальне. Рот у нее был крупный, мясистый, с пухлыми губами, по которым блуждала ироничная и порой презрительная улыбка, словно луч солнца, пробивающийся из под закрытой двери. В ней и правда ощущалась какая-то закрытость — в манерах, жестах, взглядах, словах. То, что подлинным аристократам дается традицией, воспитанием, благородным стилем, — сдержанность, простота, природное достоинство, некая снисходительность в поведении, словах и даже улыбке, холодность, представляющая собой не что иное, как смягченную хорошими манерами горделивость, самоуважение, отражающееся в уважении к другим, — одним словом, все, что у настоящей знати является врожденным, у класса, который недавно получил доступ к власти, почестям, привилегиям, является наигранным. Среди коммунистической знати, у которой стиль не врожденный, а наигранный, как среди парвеню в буржуазном обществе, сдержанность и простота манер подменяются подозрительностью. Главное отличие коммунистической знати — не дурной вкус, не грубость, не bad manners, не любование богатством, шиком, властью, а подозрительность и даже, я бы сказал, идеологическая нетерпимость. В Москве мы все в один голос хвалили образ жизни Сталина: его строгий стиль, простую, рабочую, благородную простоту манер. Впрочем, Сталин не относится к коммунистической знати. Сталин был Бонапартом после восемнадцатого брюмера, хозяином, диктатором; коммунистическая знать была против него, как парвеню Директории были против Бонапарта. У всех русских аристократов, у всей коммунистической знати чувствовалось презрение — не общественное, а идеологическое. Снобизм был тайной пружиной всех светских событий этого наимогущественнейшего и уже разложившегося общества. Вчера еще они жили в нищете, под подозрением, в шатком положении подпольщиков и эмигрантов, а потом вдруг стали спать в царских постелях, восседать в золоченых креслах высших чиновников царской России, играть ту же роль, которую еще вчера играла имперская знать. Каждый из представителей новой знати старался подражать западным манерам: дамы — парижским, господа — лондонским, меньшинство — берлинским или нью-йоркским.
Самыми элегантными среди дам были актрисы, среди господ элегантнее всех были офицеры, особенно кавалеристы Пролетарской дивизии, которая размещалась в Москве, и некоторые дипломаты Наркомата иностранных дел. Тем вечером в просторном бальном зале английского посольства было необычно много русских гостей. Все примчались на бал, который сэр Оуэн Стенли давал для московского золотого общества — иностранцев и русских, поскольку пролетел слух, будто первая танцовщица Большого театра Семенова отвергла Карахана и тот попытался покончить с собой.
Все смотрели на дверь, ожидая, что произойдет нечто невероятное: Семенова обещала явиться на бал, но опаздывала, гости и хозяин дома Стенли Оуэн были охвачены тревожным ожиданием.
Все уже привыкли к опозданиям Семеновой, которую соперницы упрекали за то, что она строит из себя старорежимную даму или, как говорила мадам Луначарская, принцессу крови.
<...>
Зимой, долгой зимой 1929 года, отношения Семеновой и Карахана были обычной темой для разговора за любым столом для игры в бридж в иностранных посольствах в Москве, у любой кучки людей в огромном зале дворца на Спиридоновке, где народный комиссар иностранных дел Литвинов — толстый, бледный, улыбающийся Литвинов, — обыкновенно устраивал официальные обеды и балы. Господа из коммунистической знати были за Семенову, дамы — за Карахана.
Мир иностранных дипломатов также разделился на два лагеря: дамы поддерживали Семенову, господа — Карахана. И это было самым верным знаком то ли новизны русского коммунистического общества, то ли хороших манер, отличавших старое западное общество. Ведь если мужчины болеют за мужчин — это признак восточной культуры, а если мужчины болеют за женщин — признак западной.
Карахан был самым красивым мужчиной в Советской России и, возможно, как утверждала супруга германского посла фрау Дирксен, самым красивым в Европе. Времена меняются, старинная аристократия приходит в упадок, на смену либеральному европейскому обществу приходит марксистское общество, однако каноны мужской красоты не подвластны времени, моде, политическому режиму, общественной идеологии и морали. Мужчина или женщина, которых сочли бы красивыми в правление Людовика XV, нравились бы и в эпоху Директории. Лорд Байрон или граф д’Орсе6 покорили бы своей красотой, блеском, грацией и манерами даже самое грубое общество или более разложившееся общество, чем их собственное. Разумеется, такой мужчина, как Карахан, заставил бы побледнеть дам даже при дворе Николая II. Помешать ему завоевать успех среди аристократок крови могло только темное происхождение. Впрочем, истории известны примеры людей темного происхождения, но невероятно красивых, добившихся благодаря своей внешности самых больших милостей и самого большого успеха в обществе. Поначалу, когда я только приехал в Москву и еще не осознал, насколько разложилась коммунистическая аристократия, меня поражало, что и в Москве, столице Советского Союза, для личного успеха настолько важна красота.
Я приехал, уверенный в том, что увижу у власти класс, вышедший из народа, — суровый, непримиримый образчик марксистского пуританства, так похожего на кальвинистское пуританство, класс, для которого имеют значение лишь революционные заслуги и верность марксистской теории. Любой рассказ о Карахане сопровождался похвалами и восторгами не только его моральными качествами, его вкладом в пролетарскую революцию (Карахан, как и Бородин, был героем китайской революции и установления советской власти в Туркестане), но и его физической красотой. Я был готов возмутиться, мне казалось, что в пролетарском обществе недостойно придавать вес физическим качествам. А тут было своего рода engouement.
Но это не было единственным признаком всеобщего разложения коммунистической аристократии. Потому что разложение нравов в революционном обществе — признак разложения идей, революционного духа. Как могли уживаться в коммунистическом обществе привилегия обладать красотой, рассматриваемая как заслуга, как моральное качество, и марксистская суровость? Всего пять лет назад умер Ленин, за это недолгое время элементы распада и разложения, уже присутствовавшие в коммунистическом обществе, развились и приняли привычные формы. Я словно оказался на месте того, кто, уехав из Парижа в годы республиканской добродетели, вернулся в эпоху Директории: «Неужели, — сказал бы он, — это то самое пуританское революционное общество, которое я видел несколько лет назад? Это Бруты, с которыми я расстался несколько лет назад, те, чью душу сжигает очистительное пламя революционной веры?» Шагая от Порт-Майо по Елисейским Полям ясным и теплым весенним днем, можно услышать, как некогда услышал Шатобриан по возвращении в Париж, песни, музыку — проявления всеобщего веселья, гнетущие признаки разложения революционной аристократии.
И все же я не мог не испытывать к Карахану искренней симпатии. Я был молод, несколько месяцев назад мне стукнуло тридцать, и юношеский энтузиазм, подтолкнувший меня приехать в Москву, чтобы увидеть вблизи героев Октябрьской революции, смешаться с толпой рабочих, с русским народом, с коммунистическим пролетариатом Советского Союза, естественно и tout entier, как сказала бы Федра, подталкивал меня к тем, кто воплощал в моих глазах гений и волю революции. Кто упрекнет меня сегодня в том, что я питал к Карахану нечто, подобное страсти? Жюльен Сорель любил Наполеона. В Москве моим Наполеоном был Карахан. Каждый довольствуется тем Наполеоном, который ему попадется. Добавлю, что в моей страсти к Карахану, к герою китайской коммунистической революции, отчасти виновна свойственная моему поколению жажда мести: после возвращения с войны 1918 года нам пришлось довольствоваться ничтожными героями, жалкими буржуазными типами вроде Д’Аннунцио, Муссолини, Барреса, Жида, Поля Валери или Поля Клоделя. В Карахане я видел героя революции, сына азиатских степей, одного из тех, кто опрокинул царский трон, толкнул в грязь старую, ни на что не способную аристократию, вывел на сцену пролетарские массы. Я видел его в романтическом свете. Но кто имеет право запретить молодежи видеть людей и жизнь в романтическом свете?
Я выбрал своим героем Карахана, а не Троцкого, Каменева или Бухарина, по одной причине: среди них он был первый красавец и последний интеллектуал. В восхищении молодого человека своим героем всегда есть нечто женственное, хотя и невинное. Ничто так не далеко от порока, как страсть, которую Сорель или Фабрицио дель Донго питают к Наполеону.
Карахан был высоким, атлетического сложения мужчиной — подобную атлетическую худобу Пушкин называл «казацкой», — с гордо поднятой над широкими плечами головой. Лицо у него выдавалось вперед, как у всех кавказцев — армян, грузин, осетин, черкесов, которые встречаются, сталкиваются и никогда не перемешиваются на перекрестке Вселенной под названием Кавказ. Карахан на языке восточных степей означает «черный князь». У назначенного после успеха коммунистической революции в Китае заместителем наркома иностранных дел, а затем послом в Анкаре прекрасного и загадочного Карахана (как о нем обычно говорили) было бледное лицо и глаза непонятного цвета: то серые, то совсем темные, они ярко сверкали за стеклами очков. В противоположность тому, что обыкновенно бывает с теми, кто носит очки, стекла лишь усиливали волшебную силу взгляда — чуть затуманенного и одновременно острого, как взгляд стеклянных глаз древнегреческих статуй. У него была черная, заостренная бородка, чем он напоминал одного из знатных испанских сеньоров, склонившихся над бледным трупом графа Оргаса на полотне Эль Греко в Толедо. Одевался он строго, в английском стиле, и отдавал предпочтение в соответствии с теперешней модой серому и черному — цветам, которые преобладают у портных с Сэвил-роу3.
Его костюмы, галстуки, туфли, рубашки, перчатки были из Лондона — их доставляли дипломатической почтой из советского посольства при дворце Святого Иакова. Сэр Эсмонд Овей справедливо заметил, что мужская мода зависит от преобладающих политических идей, что есть мода либерального и консервативного времени. «Разумеется, Уильям Питт не одевался как Уильям Фокс, а Гладстон — как Роберт Пиль». Сэра Овея удивляло, что Карахан одевается по английской моде, не осознавая, что таким образом примеряет на себя английские политические идеи. Карахан прекрасно играл в теннис и каждый день появлялся на кортах особняка на Спиридоновке или английского посольства, одетый в безукоризненный комплект из белой фланели, в теннисных туфлях — белых, на красной резиновой подошве, которые недавно вошли в моду и которые называли japanese shoes. Играл он легко, свободно, раскованно, souple, с улыбкой.
Все дамы из дипломатического мира, все актрисы, все beauties высшего коммунистического общества, жены наркомов, крупных чиновников и советских генералов прибегали на корт и толпились вокруг сетки, чтобы увидеть игру Карахана. В нем было что-то звериное, когда он носился по рыжему песчаному корту, когда вытягивал или сгибал руку, когда размахивался и с силой бил. Играл он только мячами, которые ему присылали из Лондона. С улыбкой, словно извиняясь, он объяснял, что советские теннисные мячи жесткие: «В России, — говорил он, — все, что коснется земли, уже не отскочит». Наверное, он хотел сказать «не поднимется». Затем он, улыбаясь, поворачивался к леди Овей и с задорной дерзостью, с беспечностью, которую дарит чувство собственного превосходства, с идеальным оксфордским произношением заявлял: «Маркс не предвидел, что английские теннисные мячи окажутся лучше советских. Маркс жил в Сохо и в Ист-Энде. В лондонском Ист-Энде не играют в теннис, isn’t it?»
