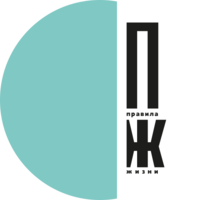Две идеологические догмы преследуют современный подход к реставрации пленки. Первая лежит на поверхности: сегодняшняя «реставрация пленки» преимущественно — если не исключительно — дело цифровое. Вторая, куда более каверзная, скрывается под отполированной цифровой поверхностью: реставрация — дело, тщательно очищенное от какого-либо политического надзора, помимо крайне ограниченных сфер технологического, этического и филологического дискурса; дело, глубоко, окончательно и бесповоротно задвинутое в категорию рыночной экономики.
Пленка и рынок: отрывок из книги «Царапины и глитчи. О сохранении и демонстрации кино в начале XXI века»

Общее происхождение глобального потепления и цифровой революции, или притча о реставрации пленки
Но слона-то мы — музеи кино, киноархивы, кинолаборатории и исследователи кино — и не приметили.
Недавно один из видных и наиболее ярых сторонников «цифрового прогресса», чтобы отстоять безусловную необходимость в оцифровке нашего кинонаследия — а иначе, как утверждают цифровые пророки, мы рискуем сделать его совсем невидимым, — рассказал группе молодых киноархивистов следующую поучительную историю (чисто гипотетическую).
Один просвещенный учитель из маленького городка где-то во Фландрии хочет организовать для своих учеников показ . Потому что помнить — важно и потому что «Шоа» — один из определяющих культурных артефактов XX века. Таким образом, каждый европейский подросток должен иметь возможность посмотреть этот фильм. Желательно в рамках организованного коллективного просмотра и желательно в кинотеатре — это обязательное условие (особенно в цифровую эпоху и особенно в случае девятичасового фильма) для обеспечения надлежащего внимания.
Вскоре наш учитель сталкивается с проблемой. Несколько месяцев назад единственный местный кинотеатр перешел на «цифру» и благополучно избавился от своих 35-миллиметровых проекторов. А так как пленка «Шоа» еще не была оцифрована в 4K и, так уж вышло, достойных DCP пока не существует, наш учитель не может показать фильм, а ученики не могут его посмотреть.
Таким образом, заявил наш видный сторонник неизбежного цифрового прогресса, мы — музеи кино, киноархивы, кинолаборатории и исследователи кино — должны немедленно прекратить поднимать шум из-за оцифровки. Прекратите думать, прекратите сопротивляться, прекратите прокрастинировать и беритесь за работу. Беритесь, наконец, за оцифровку. Потому как это — и мы только что были тому свидетелями — не только наш единственный технологический выбор, но еще и моральный выбор. Моральный выбор с четко прочерченной границей между добром (цифровое просвещение) и злом (аналоговый тоталитаризм).
Нравоучительная история завершилась молчаливым коллективным кивком. Однако вместо единодушного согласия и активного сотрудничества ответы музеев кино, киноархивов, кинолабораторий и исследователей кино должны были быть радикально иными. На эту гипотетическую историю нам следовало ответить в манере апокрифической фразы Марии Антуанетты: если они не могут посмотреть 35-миллиметровую копию «Шоа» — дабы не забывать и обрести политическую сознательность, — покажите им онлайн-видео с геноцидом, который сегодня происходит в Мьянме, Дарфуре и Сирии.
Другими словами, нам стоило сказать: внезапная «недоступность» «Шоа» не должна была быть нашей проблемой. Но раз уж мы вынуждены сейчас иметь с ней дело, давайте-ка припомним, что сама эта проблема была насильно навязана нам рынком, который не только получает прибыль от цифровой дистрибуции, но и успешно убедил целые национальные государства и экспертов, что эта конкретная прибыль является прогрессом.
Цифровые технологии можно рассматривать как прогресс в сфере кинопроизводства, но уж точно и прежде всего это испытание для сохранения пленки и поддержания жизни фильмов на большом экране, где некогда и было их место.
Но мы — музеи кино, киноархивы, кинолаборатории и исследователи кино — переняли и присвоили эту проблему. Мы приняли связанный с ней дискурс. Мы даже вроде как должны чувствовать себя виноватыми из-за нее. Забывая тем временем, кто мы на самом деле и каких взглядов придерживаемся. Забывая тем временем, что этот частный modus operandi — прибыль для нескольких под видом прогресса для всех — лежит в самом сердце рыночной капиталистической идеологии, позволяя ей воспроизводить себя до тошноты.
Капитализм процветает за счет забвения. Нам нужно забыть, что мы видели, приобретали, потребляли и ощущали вчера, чтобы снова иметь возможность приобретать, потреблять и ощущать нечто очень схожее или то же самое сегодня и завтра. Капитализм процветает за счет учеников- подростков из Фландрии, которые не могут посмотреть «Шоа», ибо в том, чтобы сделать «Шоа» доступным в цифровой (простите, реставрированной) версии, кроется прибыль.
В этом смысле так называемая цифровая революция — продукт тех же самых сил и интересов, что привели к эпохе глобального потепления, еще одному последствию слепой веры в (необходимый) бесконечный экономический рост и прогресс, в огромной мере формирующие наше настоящее и будущее.