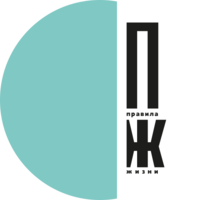Издательство: АСТ
Мифы южной Африки, Баленсиага и сорока: главные книги марта

Хан Ган, «Я не прощаюсь»
Перевод: Джаудат Фаттахов

Это новый роман самой известной корейской писательницы, лауреатки Международной Букеровской премии и в прошлом году Нобелевской. Как во всех книгах Хан Ган, здесь присутствует мощный социальный посыл; как в «Человеческих поступках», здесь идет речь о трагическом событии в истории Кореи. В 1948 году полуостров делится на северную и южную оккупационные зоны, которые вот-вот должны стать отдельными государствами. Против этого решения на острове Чеджоу вспыхнет восстание, которое будет кровавым образом подавлено, его участники будут страшно репрессированы. Сюжет представляет собой истории трех женщин на фоне этой большой истории — об ужасе и тупике насилия и о хрупкости и красоте мира.
Мария Фернандес-Миранда, «Загадка по имени Кристобаль Баленсиага»
Издательство: «КоЛибри»
Перевод: Анна Шарафеева

Balenciaga, безусловно, сегодня один из самых известных в мире модных домов. Однако у него столь бурный современный период истории, что за ним как будто затерялся основатель, подаривший ему свое имя, — тем полезнее узнать о нем больше. Журналистка Мария Фернандес-Миранда обращает внимание на то, как он сторонился публики, предпочитая позволять «говорить» своим работам. С одной стороны, автор выдерживает баланс и в каждой главе и рассказывает о том или ином знаменательном для его творчества произведении, с другой — через письма и воспоминания рассказывает о том, чем он жил и дышал. От платья для маркизы в 1906 году через открытие собственного дома моды в 1919-м к его блистательному расцвету, а затем к закату в безвозвратно изменившемся мире и финалу-закрытию.
Ирина Татаровская, «Мифы Тропической и Южной Африки. От "съедобного неба" до ритуальных масок и птицы-молнии»
Издательство: МИФ

К сожалению, книг об Африке у нас выпускается очень мало, а тех, что подходят для широкого круга, но подготовлены настоящими специалистами, не найти днем с огнем. Ирина Татаровская — доктор философских наук и кандидат филологических наук, африканист, старший научный сотрудник Центра истории и культурной антропологии Института Африки РАН, много лет изучает мифологию и фольклор народов Африканского континента (погуглите ее библиографию — это очень интересно). Основная мысль книги проста: без хотя бы некоторого понятия о мифологии, ее истоках и развитии нельзя понять ни историю континента, ни его современность, ни современную популярную культуру, которая с ней связана. Так, например, после этой книги сразу хочется перечитать Марлона Джеймса: очевидно, впечатление будет ярче, а понимание отчетливее.
Эдуард Веркин, «Сорока на виселице»
Издательство: Inspiria

Эдуард Веркин, лауреат премии «Новые горизонты», в последние годы стал одним из самых заметных русскоязычных авторов. Если вы не читали его «Снарк Снарк» и «Остров Сахалин», то можно начать с этой книги. Дело происходит в будущем, где человечество достигло невиданного прогресса, победило старость, осваивает другие планеты, а Земля превратилась в заповедное место. Одним из хранителей этого заповедника является главный герой романа — в каком-то смысле весьма сдержанно смотреть на эти скорости ему положено по должности, но нет, он в этом вполне искренен. Однако его внезапно делегируют в Большое жюри, которое соберется в институте пространства на планете Реген, где предстоит определить дальнейшее будущее человечества, — и это становится большим испытанием для него. Особенно после того, как он встретит там любовь всей своей жизни. Отличная книга, страшная, трогательная, о том, что важно для конкретного человека и для всех нас как человечества.
Хуан Габриэль Васкес, «Оглянуться назад»
Издательство: LiveBook
Перевод: Дарья Синицына

Предыдущие романы колумбийского писателя, «Шум падающих вещей» и «Тайная история Костагуаны», хорошо известны русскоязычному читателю, последний даже вошел в короткий список премии «Ясная Поляна». Это серьезный роман, но с игровой структурой. Его герой — реальный режиссер Серхио Кабрера. В романе он тоже Серхио Кабрера. Рассказчик говорит, прямо как наш автор, что истории, которые он услышал, он услышал от Серхио Кабреры. И в послесловии автор говорит, что это роман, но в нем нет вымышленных событий. Можно сказать, что это биография режиссера и его семьи, связанная и с установлением режима Франко в Испании, и с перипетиями колумбийской истории, и с событиями китайской культурной революции, но роман здесь нужен именно как способ работы с ней, с выделением характерного и уникального, с монтажом, с выделением деталей. Помимо прочего, это еще и книга о доверии двух художников, удивляющем и чем-то обескураживающем.
Надя Васильева, «Придумай мне судьбу»
Издательство: «Сеанс»

Эта книга — настоящее событие, и можно с легкостью предположить, что она довольно быстро станет культовой. Надя Васильева — одна из самых известных художниц по костюму в кино. Она пишет, что начинала работать еще ассистенткой на советском «Шерлоке Холмсе», широкая публика знает ее по работам в фильмах ее мужа, режиссера Алексея Балабанова, по артхаусным хитам вроде «Северного ветра» или кассовым фильмам, как например, «Конек-Горбунок». Сегодняшняя стриминговая гонка, конвейер, индустрия как будто отодвигают художника по костюму на задний план. Васильева смело сопротивляется этому — хотя бы вот этой самой книгой — и говорит, как много эта профессия может дать искусству и зрителю. Рассказывая об азах, собственном опыте, беседуя на страницах книги с коллегами, она открывает неочевидный для многих, требовательный, взыскательный взгляд на киноискусство — и это действительно важно как для тех, кто придет на смену, так и для читателя, влюбленного в движущиеся картинки.
Реко Секигути, «Зов запахов»
Издательство: Ad Marginem
Перевод: Ольга Панайотти

Для поклонников Секигути стоит сказать, что эта книга похожа больше на «Нагори», чем на «961 час в Бейруте». Фирменные микроэссе писательницы снова посвящены неуловимому и объединены темой запахов. Как связаны запах и место? Как запахи влияют на нашу память? А может ли нам изменять память о запахах? А можно ли с их помощью путешествовать во времени? Здесь сплетаются личные впечатления и наблюдения, цитаты и разговоры, города и эпохи. Эта книга нужна, чтобы оптикой — или ольфакторикой? — Секигути поверить собственные чувства и, быть может, уточнить их и усложнить.
Татьяна Миронова, «Оптика документальности. Практики работы с памятью и историей в современном искусстве»
Издательство: «Новое литературное обозрение»

Всеобщее увлечение памятью и историей, очевидное и зрителю, и специалисту, столь огромно, что не найти человека, способного охватить эти темы «в общем». Тем не менее художники, писатели, композиторы не прекращают с ними работать — и хорошо бы иметь если не подробную карту, то хотя бы указатель с описанием направлений. Татьяна Миронова, исследовательница, преподавательница Высшей школы экономики, взялась за такой. Она обобщает множество практик и конкретных кейсов, чтобы рассказать о выставках и музейных экспозициях, о свидетельстве и изображении, о природе документа и документальности, о театрализации и репрезентации, большой и маленькой памяти. Такая книга однозначно пригодится и начинающему художнику, и увлеченному любителю искусства.
Кент Харуф, «Хорал»
Издательство: «Дом Историй»
Перевод: Ксения Чистопольская

Небольшой американский городок, почти захолустье, столь типичная для русскоязычного читателя декорация, что с первых страниц узнавание включается не хуже, чем при упоминании покосившихся домов, палисадников и берез. И что тоже узнается безошибочно от Фолкнера до Франзена, от Льюиса до Руссо, маленький городок — модель мира, к которому господь не безучастен, но в котором в конечном итоге все определяется свободной волей людей. В романе Харуфа это чувствуешь не просто с первых страниц, но уже с самого названия, означающего христианское песнопение. Здесь пересекутся судьбы беременной женщины (сложная история), школьного учителя, двух фермеров, пары мальчишек (за ними мы будем следить попеременно) — им представится случай помочь друг другу, избежать одной несправедливости и покориться другой, проявить доброту, чистосердечие и щедрость, быть жесткими, вспомнить о любви. Над таким в конечном счете положительным романом отдыхаешь душой. Он не давит на читателя масштабом философской доктрины, но показывает рисунок судеб нескольких людей, таких как мы с вами.