Их всегда несколько. В этом смысле для меня моделью читателя была моя мать Нонна, умершая два года назад. Она была, наверное, самым жадным, неистовым потребителем культуры, которого я знала в жизни. Ее кроватка — она была очень узенький человек — всегда была узурпирована сталактитами и сталагмитами книг, это была сложная прикроватная система. Мне всегда это казалось даже несколько опасным. Надо сказать, она и умерла с Буниным в руке. Тоже своего рода выбор. Но я ей всегда говорила: «Мам, ты же не можешь читать все эти книги одновременно!» Она говорила: «Ты не понимаешь, когда я просыпаюсь ночью, я должна точно знать, где у меня Пруст, где у меня Заболоцкий». Вот эта одновременность чтения как-то мне досталась по наследству.
«Завтра я буду читать и писать»: блестящий чепчик, нарциссы и муми-тролли в любимых книгах писательницы Полины Барсковой

О книгах-собеседниках
Долгая любовь к Шварцу
Каждый из нас выбирает себе радости по вкусу. Самая тяжелая новейшая страсть, которая со мной случилась, — это проза Шварца.
Как писатель, я заряжена, заинтересована вопросом: как нам собственно писать сейчас? С одной стороны, есть очевидная проблема — неосуществление русского романа сегодня. В Америке принято написать роман — это вопрос хорошего тона и мечты о хорошем гонораре (иногда — очень хорошем). Хотя я не ощущаю соблазна написать роман, который бы разошелся как горячие пирожки, но мечта сильного прозаического высказывания жива. При этом я понимаю: чтобы писать, нужны модели новой прозы, нужно во что-то влюбляться, чем-то раздражаться, нужно чему-то сопротивляться, нужно к чему-то зачем-то идти. Некоторые из этих моделей произошли, но они неповторяемые, неповторимые. Писать как Сорокин, который в нашем ремесле национальный герой, не имеет смысла. В каком-то смысле Сорокин — это жанр, Сорокин — это форма, и повторить его нельзя, незачем.

Что же будет наша новая проза, что же нам нужно? С этим запросом я достала с полки очередное издание записок Шварца — и меня снесло совершенно. Перед нами, как мне кажется, что-то удивительное, невиданное, то, про что русская литература не совсем понимает, что у нее это есть. Шварц — самый очевидный образчик этого эго-фикшена, это попытка писать себя и свое время дивным живым, естественным языком. Это не только дневник, не голая работа свидетеля, а попытка писать себя в истории, придумывать слова, способы, формы, структуры. Но поскольку Евгений Шварц жил в Ленинграде XX века, то в этот дневник попадают ярчайшие фигуры, с которыми он находился в сложнейших отношениях, попадает одно из самых страшных событий этого столетия, а может быть, и всей истории человечества — блокада, из которой Шварца вывез Акимов уже на грани гибели. Это такой автодокумент, себяписание, попытка себяпонимания, который при этом невероятная историческая эпопея — и в этом смысле он может быть сравним с Герценом, с «Былым и думами». Но вот еще одно свойство Шварца — это не только былое, это попытка писать о настоящем дне, но каждый настоящий день тебя выносит в прошлое.
Это сплетение, этот гибрид — я никак не могу перестать это читать — обладает невероятной хваткой. Он меня держит и держит — может быть, потому, что я хочу у этого учиться, может быть, потому, что мне дико симпатичен этот человек, который все время проверяет себя на человечность, разглядывает: что же я есть, человек в катастрофе, свободный человек в государстве диктатуры?.. Может быть, это вообще одна из самых человечных книг, которые я читала.
Он удивительно честен, Шварцу принадлежат очень внимательные тексты, тексты безжалостной, горестной, трудной любви. Мой любимый — эссе «Белый волк». На мой взгляд, это одно из лучших литературных эссе, написанных по-русски. Одно из моих любимых обстоятельств: когда заходит любой разговор о Шварце, его изображают как Золушку из его сценария, а если он не Золушка, то он уж точно фея-крестная — весь в таком блестящем серебрящемся платье, у него чепчик, прелестный, прелестный. При этом ты читаешь «Белого волка» и понимаешь: перед тобой человек абсолютно безжалостный и нет на нем блестящего чепчика. Он безжалостен к себе, он безжалостен к тем, кого он любит — и чем более он любит, тем более он безжалостен. Для него это способ зрения. Любовь — это внимание; когда ты внимателен, ты видишь трудные вещи, но при этом это не мешает тебе любить. В этом фокус Шварца. Так он описывает тех, кто его окружал. В первую очередь невероятная связь с Олейниковым, с Шостаковичем, с Козинцевым, все эти болезненные, дикие гиганты ленинградского века — они там, Шварц на них смотрит и не перестает, когда они гибнут. И конечно, задает себе самые сложные вопросы о тех, кто погиб, и о тех, кто остался.
Еще, когда говорят о Шварце, вспоминают «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, пьесу «Дракон» — о, смешно! о, остроумно! как приятно! Конечно, Шварц — блестящий остроумец, что очень видно в этих пьесах, сказках, баснях, это такая часть его профессионализма. Но сейчас я хочу говорить, что перед нами такое странное существо, оно множественное. Что этот ленинградский Мольер, если угодно, он же советский Эзоп, но мне кажется нашим Прустом, который может нам дать новую прозу, если мы сумеем ее взять. Мне, по крайней мере, он ее дает. И его уникальной творческой жизни посвящена моя грустная новелла «Отделение связи» о том, что нам сегодня имеет смысл учиться читать заново, писать заново — и он может стать нашим учителем. Евгений Шварц.
Туве Янссон

Ну вот, я смотрю на свою книжную прикроватную полку. Многие книги здесь связаны с проблемой, как говорить о себе в катастрофе, в мучительном поединке со своим временем, со своей историей, когда тебя начинает кромсать и давить. Конечно, проза Шварца про это, но есть и совсем иные подходы. Вторая книга, которая мне кажется очень-очень важной, — это цикл о муми-троллях Туве Янссон. Для меня она очень важная фигура.
У меня есть такая идея, сейчас кажущаяся все более привлекательной и важной. Мысль об аллегории. Человеческая жизнь, все наши обстоятельства, во всей их болезненности и сложности, иногда не поддаются фронтальной репрезентации — это блокирует способность говорить. Бывает так больно, что об этом почти невозможно говорить напрямую. Тогда, во время советско-финской войны, в 1939 году, в Хельсинки в затемнении во время бомбежки Туве начинает от ужаса рисовать маленьких белых задумчивых бегемотиков. Потом она пририсовывает все больше бегемотиков и разных иных чудесных тварей, и уже ее друзья, и возлюбленные, и критики, и издатели — они все превращаются в этих существ, и между ними начинаются сложнейшие отношения.
Заметим, что почти в каждой книге цикла есть огромная опасность: муми-тролль и комета, например, тут есть кризис, предчувствие катастрофы, и есть попытка этого мира, Муми-дола, выжить, противостоять. Для меня это одна из главных книг утешения, потому что человеку нужно утешение. Нам, биологическому роду, людям, нам нужно себя как-то лечить, закрывать от боли, говорить, что будет завтра, говорить, что в этом завтра у тебя будет твой личный Снусмумрик, на ночь, чтобы утром проснуться. У каждого из нас, надо полагать, есть любимые книги этого рода, но для меня создать из своего мира мир иной, это желание «иначить», иносказать — очень важное. Поэтому в последнее время я неожиданным для себя образом много думаю о задачах фэнтези и научной фантастики, особенно русской и советской. У нас ведь такая ежедневная реальность и такая история, что создание миров, которые нас хоть как-то защищали бы, мне кажется очень-очень важным.
Блокадные дневники
А теперь будет целый род текстов, или жанр. В декабре Европейский университет выпустил первый том того, что, нам казалось, станет многотомником (мы все еще надеемся) — огромным собранием блокадных дневников. Я там немного в декоративном качестве, в основном там работают Ломагин и Павловские, но команда должна была увеличиваться, в городе есть еще замечательные блокадные историки.
В последнее время мне кажется, и вообще, что дневник — великая вещь. Гораздо больше, чем вечерний способ себя занять, скажем. Поскольку я пятнадцать лет читаю эти блокадные дневники, я вижу, когда человек пытается совладать с сегодняшним днем методом дневника. Это оказывается очень важным, полезным, даже спасительным занятием. Я могу назвать какие-то самые свои любимые дневники. С одной стороны, Татьяна Глебова — опубликованы фрагменты, книги еще нет; с другой — это, конечно, Любовь , это, как сказал Дима Волчек, ужасная женщина Софья Казимировна Островская; еще проблематичные дневники-воспоминания, постдневники, Зальцмана и Гинзбург. Читая сегодня эти тексты, мы понимаем, как важна работа свидетельства: эта работа и производит для нас ткань истории, не позволяет всему исчезнуть в никуда, а главное, сохраняет не общий безличный поток, но отдельные особенные жизни, вот это уникально и ценно.
Отдельно о дневнике Толстого

У меня всегда рядом с местом, где я сплю, лежит дневник Толстого Льва Николаевича. Это такой невероятный инструмент мысли и в то же время такой невероятный инструмент остроумия. Он, конечно, страшный был тип — неприятный и неотразимый. Я буквально несколько дней назад перечитывала — у него была ужасная мука по поводу собственного безобразия, меня почему-то это развлекло. А потом ты видишь: там, как и во всяком приличном издании, на вставочках — портреты молодого Толстого. И ты понимаешь, что он в молодости очень хорош собой, и думаешь: как мы все-таки интересно мучаем себя зеркалами. Но этими же зеркалами мы себя производим, и Толстой себя произвел.
Плеяда в целом и Линор в частности
Я прожила эти годы с мыслью, что я живу в очень хорошее для литературы литературное время. Что вокруг меня творят очень сильные люди, что я есть часть пленительной плеяды. Я бы могла сейчас долго говорить и назвать много имен, но, скажем, имен семь меня очень нервируют. Я просыпаюсь и думаю: что там написал такой-то? Что там написали, скажем, Булатовский, Скидан или Михайлик? Как моей кошке Кнопке, мне нужно лапой как бы проверить новый день. И Булатовский — совершенно невероятное существо современной литературной сцены, но я сейчас хочу поговорить о литературном существе и работе Линор.
Есть такой вопрос — каждый себе на него отвечает или никак не отвечает — отношение писателя со своим временем, участие писателя в своем времени. Это ведь сложно. Когда меня спрашивают про это, я говорю: возле Карповки на берегу сидят два человека, они там разглядывают траву — вот идет жук. Один из них Маяковский, другая — Гуро. Это сложный вопрос, кто из них сегодня важнее, но для меня ответ очевиден — я все время думаю о Гуро. При этом невозможно себе представить более различных позиций в своей эпохе. Маяковский весь в диалоге со своим веком, а Гуро устроена иначе.
При этом вот — Линор Горалик, поэт, изготовитель футболок, изготовитель сережек и колец, публицист, издатель, романист. Очень важно, что она — очень в своем, нашем времени. В этом смысле она — что-то очень живое. Многое из этого многих из нас раздражает, мне вообще кажется, что раздражение — это очень важное слово. Пока тебя что-то раздражает, ты вообще-то живой, и пока ты раздражаешь, ты живой. Утром, опять же, просыпаясь, я тут же смотрю: а что там у нас Линор, что она сделала, какую футболку, какой роман, какое стихотворение, какой проект? Я полюбила ее работу этих страннейших кратких «подслушанных» высказываний, как бы постбахтинский цикл — они говорят, эти бесконечные кусочки, ошметки речи.

Или вот роман Линор «Имени такого-то» — о безумии, спасении, войне, сопротивлении и катастрофе, он меня очень сильно не удовлетворил. Но он меня настолько не удовлетворил, что сделал совершенно счастливой. Я понимаю, что это очень много говорит о том, что я за человек, но я человек, верящий вот в такие отношения. Такая фигура, которая на современной литературной сцене не знает покоя, все время задает вопросы, все время предлагает новые формы, тот же флеш-фикшен, который предложила Линор, — это ново на русской литературной сцене, это большое дело, вообще-то. Она для меня есть признак жизни этой традиции, один из увлекательных знаков. Мне 46 лет — все или почти все мои любимые русские писатели, поэты, кроме Толстого, к этому возрасту уже умерли. Было бы как-то очень глупо говорить «закончилась русская литература». Русская литература не закончится, пока по улицам рая ходят Хармс и Олейников, не нами она закончится. Просто ей очень трудно сейчас, но все хорошее трудно. И Линор трудно, и Степановой, и Скидану — и так далее. Это чувство, хорошее чувство, что литература эта есть, что мы читаем Толстого, и Шварца, и Гинзбург, что, даже когда нам совсем больно, мы их читаем и думаем, как писать дальше. В этом я вижу если не надежду, то какое-то инструментальное направление — что я буду делать завтра? Завтра я буду читать и писать.
Бодлер

Бодлер важен для меня как человек, сформулировавший проблему, очень для нас болезненную: как я пишу сегодня? Как писать вчера — некоторые из нас научились просто замечательно. И как писать завтра — Сорокин тот же. Но как я смотрю на себя сегодняшнего и на свою жизнь сегодняшнюю? Это почти невозможно. Как это ухватить? В этом смысле дневниковое письмо — это какой-то выход. Бодлер начал традицию этого внимательнейшего отслеживания себя в том, что было для него важнее всего, — в городе. Вот это ощущение «презентности», ощущение создания своего сейчас и создания своего городского сейчас. Поскольку я понимаю себя как человека абсолютно питерского, для меня это понимание краеугольное — я есть в городе, я — это мой город. Я хочу каждый день понимать, что происходит со мной, и с моим городом, и с моими горожанами, и с моей городской любовью. При этом я ничего не хочу смягчать. Скажем так, Бодлер — это антимуми-тролль, это такие антиномии. Тощий, всегда без денег — деньги арестованы мамашей, — всегда совершенно обдолбанный, несмотря на то что деньги арестованы мамашей. Бодлер, который вообще себя не утешает. Да, я таков, я такое существо, я попытаюсь себя рассказать и рассказать свой мир. Мне это, среди прочего, кажется мужественным.
Как объяснить город
Я только что в Беркли отпреподавала свой первый курс — назывался «Петербург». Я в свое время была совершенно убеждена, что вся эта литература, все эти контексты непереводимы. Это невероятный апломб, снобизм, ведь, как известно, питерский человек на 90 процентов состоит из снобизма, а моя мать состояла на 100. Как это можно вообще переводить, о чем вы? Как можно понять Петербург, уже въезжая в Купчино? Это, кажется, невозможно.
Возможно. И это, может быть, стало вообще каким-то одним из главных моих жизненных уроков и наблюдений. Во-первых, мы совершенно точно знаем, что люди приходят в классы по русской литературе из-за Достоевского. Достоевский обладает невероятной силой притяжения и совращения молодых умов. Они к тебе приходят в класс из-за «Братьев Карамазовых», а тут ты их мучаешь дательным падежом. Заманиваешь, как свидригайловский паук, и, значит, делаешь с ними недоброе. Каким-то образом в ответ на Достоевского, и на Достоевского городского, воображение двадцатилетнего человека невероятно включается.
Курс этот прошел для меня как-то возмутительно легко — и да, мы начинали, естественно, с «Медного всадника». Просто для меня сейчас «Медный всадник» гораздо больше про то, как Евгений смотрит на обломки после наводнения. Там несколько строф про то, что все превратилось в обломки, что собственно и сводит с ума и повествование, и повествуемого.

Там же я преподавала «Ленинградскую хрестоматию» Олега Юрьева, одну из самых своих любимых книг. Это удивительная книга, и Юрьев — удивительное существо. У нас сейчас займет много-много времени понять, как он много всего сделал, умного и своего особенного. Как в своих книгах он служил другим людям. «Ленинградская хрестоматия» — такой урок внимания не к себе. Вообще, если бы меня спросили, как пишущему продолжиться, как пишущему сохранить себя, и свой напор, и свои мышцы, я бы порекомендовала смотреть не на себя, а вне себя, вокруг, на другого. Это большое усилие для нашего брата и сестры... Конечно, пишущий — нарцисс, как может быть иначе? Может быть и несколько иначе. Ты можешь быть нарциссом и эхом одновременно — и мне кажется, к этому очень интересно стремиться.
И дальше мы переходили к более или менее очевидным для нас текстам. Огромный кусок моей жизни и моей головы занят Вагиновым, мы много о нем говорили, вообще о проблеме канона. Понятное дело, существует мир русской-советской литературы, где «Доктор Живаго», и «Мастер и Маргарита», и «Один день из жизни Ивана Денисовича». Все это по-своему симпатично и, опять же, стоит на одних полках. Но мне кажется, что наступает время снова и очень серьезно говорить о других полках — и роль Кости Вагинова в этом разговоре огромная. К разговору о возможности и невозможности русского романа, конечно, какую-то модель нам создал этот странный человек.
Вообще, разговор о ленинградской литературе огромный и совсем-совсем незаконченный. Литература, служившая этому городу, огромна, и нам еще очень много ее изучать и думать, как читать.
О книгах для отдыха
Я страстно люблю детективы, я воспитана детективами. Мой папа, Юрий Барсков, учил меня английскому на Агате Кристи. Я люблю старые добрые детективы, мне бесконечно симпатична идея старушенции в шляпке, которая развенчивает сеть убийц, и, в общем-то, это моя любимая модель. Притом что «Десять негритят» и «Убийство Роджера Экройда», где происходит некоторое заигрывание с возможностями этого жанра, кажутся мне одними из самых страшных книг.
Но главный отдых — это именно перечитывание. У меня есть на этот счет куча идей. Все эти идеи придумал Набоков, но я рада их стибрить. Я не очень люблю читать, я люблю перечитывать — может быть, это возрастное. Но когда ты снова входишь... У меня в Питере была любимая квартира, ее обитатели сейчас уже далеко, но это была самая главная для меня квартира, на Литейном и Пестеля. Ты входишь и все знаешь: как хрустнет пол, как не заработает плита, как ты сядешь на кота — ты сладострастно всего этого ожидаешь, приближаясь. В чтении так же: ты знаешь, тут внизу на странице такой-то произойдет то-то.

Есть важная для нас книжка Миши Гронаса о памяти и чтении. У него там есть предложение: «Задумывались ли вы когда-нибудь, почему вам нравится заниматься любовью? Вам нравится заниматься любовью потому, что вы точно знаете, что произойдет». Я не знаю, как Миша пробил это предложение через американского редактора, но мне нравится знать, что я знаю, что случится с Паганелем, с блуждающим по городу Шарлем Бодлером, с Муми-троллем. И мне нравится не знать, как я отреагирую в этот раз. Нам в детстве объясняла бабушка, что мы когда-нибудь дорастем до каких-нибудь сцен в «Войне и мире». Я до всего уже доросла, как кажется, меня уже ничего, кроме дуба, не интересует, все остальное вызывает болезненную реакцию тоски. Так, последняя моя книжка называется «Натуралист». Я бесконечно хочу, и могу, и учусь думать о том, как природа нас пишет, а не наоборот. Ты живешь, и ты стареешь (что тоже, кстати, по понятным причинам мне кажется очень интересной темой все более и более). Ты открываешь для себя в уже существующих, прочитанных, понятных, прожитых тобой книгах что-то совершенно новое — нового кота, на которого можно сесть.
Вообще, к разговору об удовольствии, это еще и укладывание спать вместе с «Записками охотника». Когда я говорю: гори оно все синим пламенем, кончись оно все и я сама кончись, но я ложусь с кнопочкой, с «Записками охотника». Иван Сергеевич такой в шляпе входит, с фальцетом, в комнату с сачком — и, в общем, это как-то все возможно продолжать.
Так я начала книжку, роман, в котором ботанические сады будут занимать огромное место. Главным героем будет ботаник, а вернее — ботаничка и ее странствия по своей судьбе.
Кто ближе из Серебряного века
Меня интересуют исключительно люди, у которых я могу что-нибудь спереть, позаимствовать. Вообще, я конечно очень верю в шекспировскую идею, что литературное мастерство — это прежде всего воровство. Ты себе ищешь учителя, ты потом к нему идешь, говоришь: «Научите меня, пожалуйста, я тут буду молча сидеть». В этом смысле у меня неистекающее внимание к упомянутой Елене Гуро. То, что Гуро делала, она делала, очевидно, для сейчас. Невероятной краткости, невероятной суггестивности, невероятной какой-то одновременно мощи и деликатности

тексты о себе, о себе в природе и о всяческих ограничениях. Трудно оторваться.
Вообще, моей любимой прозаической книгой про начало XX века являются так называемые воспоминания Тэффи — о том, как она драпает от революционных матросов. Самая смешная книжка о трагедии, которую я читала. Степень остроумия такая, что я не понимаю, как это сделано, я не понимаю, кто этот человек. С другой стороны, здесь есть еще тема, по понятным причинам не дающая мне покоя, — это литература и эмиграция. У нас Серебряный век в огромном своем смысле перелился туда, и мы в очень ограниченном смысле понимаем, что случилось дальше. А случились чудеса.
Вообще, я очень люблю мужчин, но все более в Серебряном веке меня интересуют женщины. Они были в очень трудной ситуации, они только начинали изобретать постановку голоса, еще недавно графиня с изменившимся лицом бежала к пруду, а уже через пару десятилетий Ахматова выходит и читает три стихотворения — она всегда читала очень мало, — и все уже знают, в чьем присутствии они находятся. То, как стремительно все изменилось, невероятно. Очень многие имена оказались как-то продавлены. Мне очень нравится идея смотреть на таких, как Гуро, которые говорили: ребята, небесные верблюжата, несколько копий, вы уж там как-нибудь сами разберитесь с тем, что я написала, а я пойду. Нам — мне — настало время разбираться с тем, что она написала, и это будоражащее ощущение актуальности. Для меня сегодняшний поэт — это Елена Гуро, среди прочих.
Что читали с мамой
Отношения эти были очень сложные. Я, будучи любительницей Шварца, совершенно не склонна говорить: боже, какая она была вся такая, значит, умилительная. Ничего в ней не было умилительного. Она была невероятно сложна. Создание меня как читателя было ее огромной амбицией. В девять лет моя мать среди прочего мне сказала, что ей кажется мой список чтения неудовлетворительным. Там еще была такая проблема: я была застигнута за ночным чтением «Капитана Врунгеля». Общение было прервано на полтора дня. Я в ужасе перерыла все, что было в доме, в поисках чего-то — мы говорим об очевидном травматическом опыте, — что могло бы ее удовлетворить, и нашла том рассказов Эдгара Алана По. И принесла ей это, и сказала: «Можем ли мы возобновить отношения, если я вот это прочту?» И она согласилась. Я, помню, сквозь слезы и сопли читала «Преступление на улице Морг» — и мне кажется, с этого момента я началась. Это момент, который я помню так же отчетливо, как свой первый стишок. Что все начинается с этого очень странного усилия осознания себя.
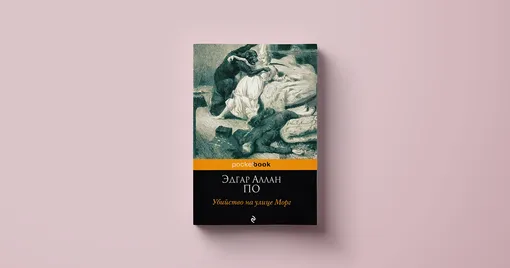
Я совсем-совсем-совсем в других читательских отношениях с Фросей (дочь Полины Барсковой. — «Правила жизни») — не дай бог! Я в такое дикое ликование прихожу, когда обнаруживаю, что она вообще умеет читать. На эту тему есть масса обожаемых мною историй. В частности, я сняла серию фотографий — когда-нибудь продам ее на «Сотбис», — на которых Юз Алешковский спрашивает Фросю, что она любит читать. Фрося не могла оценить всю прелесть беседы, но я боюсь, что и читатели журнала ее не смогут оценить: там было очень мало цензурных слов. Он, пользуясь такого рода словарем, пытался объяснить Фросе, что такое Достоевский. Я думала, может быть, это ее хоть как-то убедит. Мне фактически пришлось завести черного кота для того, чтобы убедить ее, что «Мастер и Маргарита» — книга, достойная ее внимания. Но это особая вещь — чтение эмигранта. Она художница, эмигрантка, она другая. А Нонна учила меня читать безжалостно.
Книжки, чтобы понять Америку
Я очень люблю цикл Лорки «Поэт в Нью-Йорке» — рифма. Мне кажется, Америку очень хорошо описывать — как все, кстати — глазами иностранца, это замечательно полезный взгляд, остранение. Судьба занесла меня в Сан-Франциско, и я всем рекомендую человека Керуака. Очень неоригинально. И дружков его прелестных. Вообще, вся эта компания, весь этот мир людей, пытавшихся все придумать заново, отряхнуть с ног своих всякую мерзкую литературу, литературность — и тоже описать свой город и путь к своему городу.

А еще читаю сейчас Джоан Дидион. Это удивительное чтение в смысле гибрида фикшена-нонфикшена, а также невероятной наглости и дерзости — я буду смотреть на самое больное место себя, и я не замолчу. У меня это вызывает такое почтение и такую нежность.
