СТИВЕН КИНГ
Проза жизни

Записали Кристофер Леманн-Хаупт и Натаниэл Рич. Перевод Веры Пророковой.
Начало
Хотите верьте, хотите нет, но когда мне было лет шесть-семь, я перерисовывал комиксы и сочинял собственные истории. Помню, я болел тонзиллитом, лежал дома, заняться было нечем, и я стал писать рассказы. Кроме того, на меня повлияло кино. Помню, как мама отвела меня в «Радио-сити» на «Бэмби». Меня там все поразило — и огромный зал, и лесной пожар, бушевавший на экране. Я тогда писал образами, потому что больше ничего не знал.
Материал
В «Кладбище домашних животных» много личного. Там все правда — до того самого момента, как на дороге убивают маленького мальчика. Мы переехали в такой же дом у дороги, там точно так же ездили огромные грузовики, и старик, который жил напротив, говорил: «Так привыкаешь смотреть, как они едут мимо...» Мы тоже ходили в поле, пускали воздушных змеев. И на кладбище домашних животных ходили. Смаки, кота моей дочки, сбила машина. Мы похоронили его на кладбище, а вечером я услышал, как Наоми плачет в гараже. Она плакала и твердила: «Верните мне моего кота! У бога пусть будут свои коты!» Я вставил это в книгу. А Оуэна все время так и тянуло к дороге. Он тогда был совсем маленький — года два. Я ему кричу: «Нельзя этого делать!» А он, конечно, только смеется и бежит еще быстрее — в этом возрасте они все такие. Я кинулся за ним, оттащил на обочину, и мимо пронесся грузовик. Все это попало в книгу. Потом ты себе говоришь: надо пойти дальше. Если берешься описывать горе, рассказывай, что бывает, когда теряешь ребенка. И я это сделал. Я горд тем, что прошел весь путь, но под конец было так тяжело, так страшно. Ведь к финалу книги надежды не остается ни у кого. Обычно я даю своей жене Тэбби почитать рукопись, но в тот раз я этого не сделал. Дописал книгу и просто положил ее в стол.
Записи
У меня есть каталоги, где все организовано по довольно сложной схеме. Сейчас я пишу роман Duma Key, и я систематизировал все рабочие записи, чтобы не забыть детали всех линий романа. Я записываю даты рождения своих героев, а потом высчитываю, сколько им лет в таком-то или таком-то году. Нужно не забыть, что у этой героини на груди татуировка, не забыть, что у Эдгара к концу февраля появляется верстак. Потому что если сейчас я что-то напутаю, такая морока будет все это потом исправлять.
Рабочее место
Хорошо, когда есть удобный стол, удобное кресло, и света достаточно. Где бы ты ни писал, это всегда убежище, в котором ты скрываешься о мира. Чем больше отгораживаешься от всего внешнего, тем сильнее работает воображение. Ну, скажем, если сидишь у окна, все равно рано или поздно начинаешь смотреть на девушек, которые идут по улице, проверяешь, кто приехал, кто уехал. На улице непременно что-то происходит, и ты думаешь: а куда вот этот собрался, а что вон тот продает?
Дневная норма
Но место не главное. Куда важнее стараться работать каждый день. Вот сегодня я написал четыре страницы. Раньше писал по две тысячи слов в день, а то и больше. А сейчас — еле-еле тысячу вытягиваю.
Темп
Раньше я любил работать под громкую музыку, но теперь — нет. Когда я сажусь за стол, у меня одна задача — двигать сюжет дальше. Если есть такая штука как темп книги, и если меня читают, потому что текст написан в определенном темпе, это все потому, что читатели чувствуют: я хочу добраться туда, куда задумал. Я не хочу слоняться вокруг да около и любоваться пейзажами. Громкая музыка помогала мне не терять темп. Но я тогда был моложе, и мозги у меня работали куда лучше. Теперь я слушаю музыку только под конец рабочего дня, когда просматриваю на компьютере то, что сегодня сделал. Мою жену музыка часто выводит из себя, потому что я слушаю одно и то же по несколько раз. Я очень любил «Мамбо № 5» Лу Бега. Такая бодренькая мелодия в стиле калипсо. И однажды жена поднялась ко мне в кабинет и сказала: «Стив, еще раз это заведешь... я тебя прикончу». В общем, я музыку не то чтобы слушаю — она мне нужна как фон.
Процесс письма
Я пишу не только на компьютере, иногда и от руки тоже. Рукой я написал «Ловца снов» и «Мешок с костями» — хотел понять, как получится. Кое-что изменилось. Прежде всего, дело пошло медленнее — когда пишешь от руки, времени уходит больше. И каждый раз, когда я начинал писать, во мне просыпался лентяй и говорил: «А это обязательно?» У меня после этих упражнений до сих пор мозоль на пальце. Зато работа с черновиками была куда увлекательней. Мне показалось, что первый вариант получился более отточенным — все потому, что спешить не получалось. Ведь писать можно только с определенной скоростью. Это все равно как мчаться на мотоцикле или идти пешком.
Тема
Когда я писал «Куджо» — роман про бешеную собаку, — у меня барахлил мотоцикл, и я узнал, где его можно починить. У механика был дом, а через дорогу — автомастерская. Я приехал туда, и во дворе мой мотоцикл заглох окончательно. Тут из гаража вышел здоровенный сенбернар и направился прямиком ко мне. Вид у сенбернаров устрашающий, особенно летом. Морды обвисшие, глаза слезятся. Всегда кажется, будто они не в себе. Он издал низкий грудной рык — аррргггххх. Я в то время весил 60 килограммов, а он, наверное, всего кило на пять меньше. Механик вышел из гаража и говорит: «Вы не пугайтесь. Он со всеми так». Я протянул псу руку, а он на нее кинулся. У мужика в руке был гаечный ключ, и он огрел пса по заднице. Звук был — словно выбивалкой по ковру стукнули. Пес взвизгнул и тут же присел. Помню, как я испугался. Если бы не хозяин с гаечным ключом... Но это был никакой не сюжет, так, зарисовка.
Через пару недель я стал думать про наш с женой Ford Pinto. Мы его купили, когда получили две с половиной тысячи аванса за «Кэрри». Проблемы начались с самого начала — что-то было не так с игольчатым клапаном в карбюраторе. Из-за этого машина не заводилась. Я боялся, что жена где-нибудь застрянет, и думал: «А если она тоже повезет машину чинить, игольчатый клапан западет, и она не сможет сдвинуться с места. А если ей повстречается не просто злая собака, а на самом деле ненормальная? А вдруг это будет бешеная собака?»
И тут у меня в мозгу что-то щелкнуло. Достаточно какого-то одного толчка, и ты тут же представляешь себе множество подробностей. Начинаешь думать: «Почему никто не пришел к ней на помощь? Там же есть дом, в нем живут люди. Где они? Не знаю, отвечаешь ты себе, в этом-то вся история. Где ее муж? Почему муж ее не спас? Не знаю, но это предстоит узнать. А что будет, если собака ее укусит? Она же заразится бешенством». Уже написав страниц семьдесят, я узнал, что инкубационный период при бешенстве слишком долгий, поэтому то, что она взбесилась, уже не могло быть причиной того, что с ней происходило. Это пример того, как реальный мир вмешался в замысел. Так всегда бывает: видишь что-то, потом это соединяется еще с чем-то и получается сюжет. А вот что будет происходить, никогда заранее не знаешь.
Детали
Многим не нравится, что я очень часто упоминаю в книгах всякие бренды. Но я никогда не перестану этого делать, и никто не сможет меня переубедить. Потому что всякий раз, когда я так поступаю, чувствую, что попал, попал в точку. Вот смотришь на старую фотографию Майкла Джордана в прыжке и чувствуешь, что мяч попал куда следовало. Иногда название бренда подходит идеально, оно держит весь эпизод. Когда Джек Торренс в «Сиянии» накачивается экседрином, сразу понимаешь, что это значит. Мне всегда хочется спросить этих критиков, среди которых есть и писатели, и университетские профессора: «А вы обычно что делаете? Открываете аптечку и видите безымянную коробочку? Пользуетесь шампунем вообще, аспирином вообще? Идете в магазин и покупаете упаковку просто пива? А в гараже у вас стоит просто машина?»
И я себе отвечаю: «Держу пари, именно так они и живут. Некоторые из этих университетских профессоров — например, тот, для которого литература остановилась на Генри Джеймсе, но если заговорить с ним о Фолкнере или Стейнбеке, он выдавит из себя вежливую улыбку, — так вот, они ни черта не понимают в американской литературе и считают это своим главным достоинством. А когда они открывают аптечку, видят просто коробочки с какими-то лекарствами, потому что не умеют наблюдать». Я считаю, что я как раз и должен говорить: это пепси, ясно? Надо называть вещи своими именами. Описывать то, что видишь. Можешь сделать для читателя фотографию — сделай.
Шлифовка
С тех пор как работаю на компьютере, чаще правлю прямо с экрана. С «Мобильником» я именно так и поступал. У меня была редакторская правка, я вносил свою — это было все равно что на коньках кататься. Но это не оптимальный вариант. Когда я работал над «Историей Лиси», рядом со мной лежала распечатка, я создавал новые файлы и все перепечатывал заново. Это уже похоже на плавание, что мне больше нравится. Всякий раз когда начинаешь редактировать, получается другая книга. Потому что, когда заканчиваешь работу, говоришь себе: «Я вовсе не это хотел написать». Я понимаю это, уже когда пишу. Но если пытаешься собой руководить, только все портишь. Писатель-фантаст Альфред Бестер говорил: «Руководит тобой книга. Надо только позволить ей вести тебя туда, куда ей надо. Если не получается, то и книга выходит плохая». У меня были плохие книги. Они никуда меня не вели. Мне самому приходилось их толкать.
Вымысел и правда
В моих романах мистика появляется не потому, что я так хочу. Я ничего никуда не запихиваю. Оно приходит само. И штука в том, что мне это нравится. Duma Key, роман, который я сейчас пишу, — это история некоего Эдгара Фримантла, который в результате аварии потерял руку. И я подумал, что наверняка есть какие-то паранормальные симптомы с этим связанные. Я знал, что люди, терявшие руки и ноги, испытывали потом фантомные ощущения. Я заглянул в Google, хотел узнать, сколько времени длятся фантомные боли. Обожаю Google. Там нашлись тысячи примеров, и лучший — про парня, у которого рука попала под пресс, — я вставил в книгу. Он забрал свою руку, дома положил ее в банку со спиртом и отправил в подвал. Прошло два года. Парень чувствовал себя отлично. Но вот как-то зимой он заметил, что рука, которой уже нет, очень мерзнет. Он позвонил врачу и сказал: «Руки нет, а мерзнет она чудовищно». Врач спросил, что он сделал с рукой. Парень ответил, что рука лежит в банке, в подвале. Врач посоветовал пойти проверить, как там рука. Оказалось, что банка стоит на полке у разбитого окна, откуда дует ледяной ветер. Он переставил банку к батарее и сразу почувствовал себя лучше. Судя по всему, это подлинная история.
Привычка
Сигареты, как и все, что вызывает привыкание, — это, конечно, то, что есть в нас дурного. Это то наваждение, которое и делает тебя писателем, вселяет в тебя желание все изложить на бумаге. Алкоголь, сигареты, наркотики. Если не идет работа, если я не могу сесть за стол, меня это мучает. Уметь писать — это счастье. Когда получается, это ни с чем не сравнимое наслаждение, когда получается не очень — все равно отличный способ проводить время. А книги — доказательство того, что ты не зря стараешься.

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА
Записал Рикардо Сетти. Перевод Светланы Силаковой.
Темы
Не писатель выбирает темы, а темы выбирают писателя. У меня всегда было чувство, что некоторые сюжеты сами мне навязывались. Игнорировать их я не мог — ведь неким загадочным образом... не могу вразумительно объяснить как... они связаны с ключевыми событиями моей жизни. Совсем мальчишкой я поступил в военное училище имени Леонсио Прадо в Лиме, и годы, которые я там провел, вселили в меня почти физическую, на грани одержимости потребность писать. Там я испытал сильнейшую психологическую травму: детство закончилось, я открыл для себя, что в моем отечестве царят насилие и озлобленность, что страна раздроблена на социальные, культурные и расовые фракции, которые ни в чем не согласны между собой и погрязли в ожесточенной борьбе. Как минимум, пережитое пробудило во мне сильнейшую потребность в том, чтобы творить, выдумывать свой мир. Не помню, чтобы я когда-либо рационально, трезво решал о чем-то написать. Все наоборот. Некоторые события или люди — а иногда увиденное во сне или где-то прочитанное — неожиданно возникают передо мной и требуют внимания к себе.
Колорит
Я не устаю подчеркивать, что в литературе есть нечто, не постижимое разумом. Думаю, очень важно, чтобы умозрительная составляющая — а ее присутствие в романе неизбежно — растворялась в напряженном действии, в историях, которые ты рассказываешь. И истории эти должны пленять читателя не идеями, которые в них вложены, а колоритом, неожиданностью, загадочностью, чувствами, которые они вызывают, саспенсом, который они нагнетают. В этом смысле я — писатель XIX века. Под романом я все еще понимаю роман приключенческий, а приключенческие романы надо читать именно так, как я только что описал.
Юмор
Когда-то у меня была «аллергия» на юмор — я наивно считал, что серьезная литература несовместима с улыбкой, что если я планирую касаться серьезных проблем — социальных, политических, культурных, — юмор мне повредит, если я буду шутить, читатели сочтут мои вещи легковесными, подумают, что это просто развлекательное чтиво. Но в один прекрасный день, работая над романом «Капитан Панталеон и рота добрых услуг», я обнаружил: юмор — бесценный инструмент. Без него невозможно изобразить определенные стороны жизни. Не исключаю вероятности, что он вновь начнет играть большую роль в моей прозе. Собственно, это уже случилось. И в моих пьесах он присутствует — особенно в «Кэти и гиппопотаме».
Замысел
Все начинается с какой-то грезы с открытыми глазами — с размышлений о человеке или ситуации, существующих только у меня в голове. Потом начинаю делать заметки — набрасываю планы сцен: кто когда появляется и когда уходит, что делает. А когда непосредственно берусь за роман, составляю общий сюжетный план. Надо сказать, я никогда этому плану не следую, полностью перекраиваю его в процессе работы. Но он помогает мне приступить к делу. Потом начинаю собирать кусочки воедино, ничуть не заботясь о красотах стиля, по много раз переделываю одни и те же сцены, выдумываю диаметрально противоположные ситуации.
Сырой материал мне помогает, воодушевляет. Но этап, когда я пишу все по порядку, для меня самый сложный. Продвигаюсь вперед с большой опаской, все время сомневаюсь в результатах. Первоначальный вариант пишется в сильнейшем нервном напряжении. Но стоит закончить черновик — а работа над ним может затянуться и на пару лет, — все меняется. Я осознаю: вещь уже существует, просто она погребена в том, что я сам для себя называю магмой. Хаос полнейший, но в нем уже скрыт мой роман — затерян среди множества мертворожденных фрагментов и лишних сцен, которые впоследствии отпадут, или сцен, которые повторяются по несколько раз в разном ключе, с другими персонажами.
Шлифовка
Роман рождается из хаоса. Нужно просто отделить его от всего остального, счистить сор, и это самый приятный этап моей работы, когда я могу работать по много часов в день, без той нервотрепки, которой мне стоил черновик. Думаю, по-настоящему я люблю не писать, а вносить правку, переделывать, редактировать. По мне, это самая творческая часть писательского труда. Никогда заранее не знаю, когда произведение будет завершено. Полагаю, что уложусь в несколько месяцев, а потом иногда вожусь с вещью несколько лет, прежде чем доделаю. Роман кажется мне завершенным, когда появляется ощущение: «Если я его не закончу как можно скорее, он меня доконает». Когда сил твоих больше нет, когда чувствуешь: «Все, хватит!» — считай, роман готов.
Перепечатка
Сначала я все пишу от руки. Работаю непременно утром и еще несколько часов после полудня — это самое благодатное время суток. Писать от руки я могу в течение двух часов, не больше, — пальцы немеют. Тогда я откладываю ручку и начинаю перепечатывать написанное, попутно что-то меняя; пожалуй, это первая стадия редактирования. Но всегда прекращаю работу, не допечатав несколько строк, чтобы на следующий день начать с этого «хвостика», написанного днем раньше. Это такая своеобразная разминка.
Похожим образом поступал Хемингуэй. Он считал, что никогда не надо записывать все, что держишь в голове, тогда на следующий день легче приступать к работе. По мне, нет ничего сложнее, чем начинать. Утром снова настраиваться на роман... Это так нервирует... Но если тебе надо заняться чисто механическим трудом, то, считай, работа уже началась, агрегат запущен.
Режим
Работаю я по очень жесткому распорядку. Каждый день с утра до двух часов пополудни провожу в кабинете. Для меня это время дня священно. Я не обязательно пишу — иногда правлю написанное или делаю заметки. Но все равно я нахожусь на рабочем месте. Это возведено в систему. Конечно, бывают дни, когда творить легко, а бывает наоборот. Но я работаю ежедневно — если нет новых идей, занимаюсь редактированием, вношу правку, делаю заметки и так далее. Бывает, перепечатываю заново уже готовое произведение — пусть только для того, чтобы изменить пунктуацию. С понедельника по субботу я работаю над очередным романом, а в воскресное утро пишу статьи и эссе. Но это только по воскресеньям, чтобы журналистика не перехлестывалась с творческой работой. Работать по-другому я просто не умею. Если бы ждал вдохновения, никогда бы ни одной книги не закончил. В моем случае вдохновение приходит благодаря регулярным усилиям.
Озарение
Ни разу не испытывал озарения. Все идет гораздо медленнее. Сначала — нечто туманное, как будто пробуждаешься, во что-то всматриваешься настороженно и пытливо. Иногда в неясной мгле различаешь то, что вызывает у тебя интерес, любопытство и воодушевление — и из него рождается работа, листки с заметками, план сюжета. А когда чертежи уже готовы, и я начинаю все расставлять по порядку, нечто весьма размытое и туманное все еще присутствует. Это озарение снисходит на меня, только когда я работаю. И только напряженный труд в самый неожиданный момент может пробудить это обостренное восприятие, это воодушевление, которое ведет тебя к откровению, подсказывает решение, проливает свет. Когда я добираюсь до сердцевины романа, над которым уже длительное время работаю, тогда и впрямь что-то происходит. Повествование перестает быть холодным, не имеющим ко мне никакого отношения. Мало того, становится для меня настолько живым и важным, что все происходящее со мной самим реально лишь в той мере, в какой оно связано с романом. Все, что слышишь, видишь, читаешь, в том или ином смысле помогает моей работе — такое ощущение. Я, можно сказать, пожираю реальность, точно каннибал. Но чтобы войти в это состояние, я должен прежде испытать катарсис, а его надо заработать. Я постоянно живу двойной жизнью: у меня тысяча дел, но о работе думаю постоянно. Разумеется, иногда это состояние становится навязчивым, перерастает в невроз. Тогда, чтобы расслабиться, я смотрю кино. После напряженного трудового дня, когда в душе царит полная сумятица, кино мне очень помогает.
Шум
Иногда я делаю заметки под классическую музыку — но только инструментальную, без пения. Такой обычай у меня появился, когда я жил в очень шумном доме. По утрам я работаю один, никто ко мне в кабинет не поднимается. Даже на телефонные звонки не отвечаю — иначе моя жизнь превратилась бы в ад. Вы и представить себе не можете, как часто мне звонят, сколько людей заходит. Мой дом знают все. К сожалению, мой адрес стал достоянием гласности.
Герои
В определенных случаях я сочиняю героям биографии. Все зависит от того, как я их воспринимаю: некоторых буквально вижу, а другие скорее ассоциируются с определенной манерой выражаться или с какими-то обстоятельствами. Случается, что внешний облик персонажа выражает его натуру, и тогда приходится набросать для памяти его словесный портрет.
В начале работы все такое холодное, мертвое, надуманное! А потом мало-помалу каждый персонаж обрастает ассоциациями, вступает во взаимоотношения с другими, и книга начинает оживать. Это чудесное, упоительное ощущение — обнаруживаешь, что в повествовании уже есть силовые линии, возникшие естественным путем. Но чтобы достичь этой точки, ты должен работать, работать, как вол.
Некоторые люди и события из твоей повседневной жизни словно бы заполняют пустые места в романе, подбрасывают именно то, что нужно. И внезапно понимаешь, в чем надо разобраться, чтобы вещь была готова. Правду всегда искажаешь, от прототипов уходишь очень далеко. И все равно такие встречи с персонажами в реальной жизни происходят лишь на завершающей стадии работы, когда все вокруг идет в дело. Иногда смотришь и чувствуешь: что-то знакомое... «А-а, вот лицо, которое я искал, вот она — эта интонация, эта манера выражаться».
Бывает, персонажи выходят из-под твоего контроля. У меня так случается постоянно, поскольку мои персонажи никогда не являются порождением чисто рациональных соображений. Мои персонажи — проявления каких-то инстинктивных сил. Потому-то некоторые из героев тут же начинают главенствовать или формируются сами, без моего участия. А другие уходят на задний план, даже если задумывалось иначе. Это самая интересная стадия работы — когда осознаешь, что некоторые персонажи требуют для себя более важных ролей, когда видишь: повествование развивается по своим собственным законам, которых ты не можешь нарушить. Становится ясно, что автор не властен лепить персонажей по собственной воле, что они наделены определенной самостоятельностью.
Материал
Чтобы нечто выдумать, мне всегда нужен трамплин реальности. Поэтому я собираю материал и езжу по местам, где происходит действие моего произведения. Не подумайте, что я стремлюсь просто воссоздать реальность — отлично знаю, что это невозможно. Сколько заметок и конспектов не делай, в итоге идет в счет лишь то, что отбирает твоя память. Поэтому я никогда не беру с собой фотоаппарат, когда еду собирать материал.
Прототипы
В начале 1950-х в Лиме я устроился работать на радио и познакомился с человеком, который писал для «Радио Сентраль» сценарии сериалов. Работал он, как машина: строчил бесчисленные эпизоды, не удосуживаясь даже перечитать написанное. Меня он потряс — возможно, потому, что это был первый профессиональный литератор, которого я узнал лично. Но самое глубокое впечатление на меня производил тот необозримый мир, который, казалось, просто вырывался из его рта вместе с воздухом; а уж когда с ним произошло то, что стряслось и с моим Педро Камачо в «Тетушке Хулии и писаке», я был совершенно околдован. В один прекрасный день сюжеты разных сериалов стали переплетаться между собой и путаться, и на радиостанцию полетели письма от слушателей, заметивших странные происшествия — что персонажи одного сериала перемещаются в другой и так далее. Это и подсказало мне замысел «Тетушки Хулии». Но, разумеется, герой моего романа претерпевает много метаморфоз и мало похож на своего прототипа — ведь прототип вовсе не лишился рассудка. Кажется, он просто ушел с радио, взял отпуск... Развязка была куда менее драматична, чем в романе.
После книги
Я пишу, потому что чувствую себя несчастным. Писательство — способ побороть это чувство. Закончив книгу, ощущаю пустоту, смятение. Чувствую себя алкоголиком, который бросил пить. Единственный выход — немедленно погрузиться в работу снова. Чтобы между предыдущей книгой и новой не вклинился вакуум.

МАРТИН ЭМИС
Записала Франческа Ривьер. Перевод Василия Арканова.
Начало
В тринадцать-четырнадцать лет быть писателем или художником хотят все, но только тех, кому это удается, потом спрашивают, когда им пришла в голову эта идея. Я всегда говорю, что в этом возрасте я уже знал, что мой отец (английский романист Кингсли Эмис. — Правила жизни) — писатель, но понятия не имел, какие книги он написал. Спросить меня, так это могли быть вестерны или исторические романы. Он и сам был выдающийся бездельник, и меня никогда ни к чему не подталкивал.
Позднее я осознал, как это было ценно и мудро. Что делает человека писателем? Развитие некоего седьмого чувства, которое отчасти лишает его переживаний. Когда писатели переживают, они редко затрачиваются на все сто процентов. Они всегда себя сдерживают и пытаются понять, как это можно передать на бумаге. Как будто к ним это не относится, такая холодная беспристрастность. Мне кажется, эта способность развилась во мне довольно рано.
Замысел
Расхожее представление о том, как пишутся романы, таково. Считается, что писатель в таком отчаянии, что составляет список героев, список возможных тем и наброски сюжета и пытается все это как-то переплести. В действительности такого никогда не случается. А случается то, что Набоков называл пульсацией. В этот момент писатель думает: «Вот нечто, о чем я могу написать роман». Бывает, что ничего в возникшей идее тебя не влечет, кроме одного — ощущения, что это твоя судьба. Втайне этой идеи можно бояться или благоговеть перед ней, она может тебя отталкивать, но все это второстепенно. С каждым днем ты все больше убеждаешься, что это твой следующий роман.
Процесс письма
Иногда роман рождается довольно последовательно, и это похоже на путешествие: сюжет развивается, словно сам по себе, по мере твоего движения. Но иногда ты оказываешься на распутье перед двумя с виду не отличимыми друг от друга проселочными дорогами, обе выглядят одинаково безнадежно — и тогда приходится выбирать, по какой идти.
Иногда случается пробуксовка, и тормозит тебя не страх перед тем, что предстоит, а какая-то ранее допущенная погрешность. Надо вернуться и поправить. Мой отец описывает, как ему буквально приходилось брать себя за руку, ласково, но крепко, и говорить: «Ладно, теперь успокойся. Что конкретно тебя волнует?» Диалог развивается следующим образом: «Ну вообще-то первая страница». — «Что не так с первой страницей?» Он мог сказать: «Первое предложение». И тут он понимал, что тормозит его мелочь. Вообще-то, насколько я знаю, садясь писать, отец сразу писал начисто; он говорил, что нет смысла записывать предложение, если ты не собираешься отвечать за свои слова. Он знал намного лучше, чем я, конечный пункт своего движения. У меня более опрометчивая натура.
Сюжет
Сюжеты по-настоящему важны только в триллерах. В обычной литературе сюжет — это... Что это? Крючок. Читателю должно быть интересно, чем все обернется. В этом отношении «Деньги» было гораздо труднее писать, чем «Лондонские поля», потому что, по сути, это роман, в котором нет сюжета. Я бы назвал его романом авторского голоса. Если голос не работает, ты в пролете. В «Деньгах» авторский голос был только один, а в «Лондонских полях» — четыре. Вместо того, чтобы сложить все яйца в одну корзину, я разложил их по четырем. Я почти не сомневался, что мой крючок — историю про женщину, которая организует свое собственное убийство, — проглотят. И хотя на протяжении пятисот страниц нет почти никакого действия, читателю все равно интересно — он хочет знать, чем все закончится. В этом смысле это роман-приманка.
Язык
Я бы сказал, что писатели, которые мне нравятся и которым я доверяю, во главу угла ставят то, что называется английским предложением. Огромное количество современных произведений кажется мне ущербными именно с точки зрения языка. Когда-то я назвал это навеки обнищавшей прозой. Нет, дайте мне короля в своем казначействе. Дайте мне Апдайка. Самое важное — писать свободно и страстно, задействуя все доступные тебе языковые ресурсы. Энтони Берджесс говорил, что писатели делятся на два типа: тип «А» и тип «Б». Тип «А» — это писатели-рассказчики, тип «Б» — это потребители языка. Я склонен относить себя к типу «Б». Могу сказать и грубее: я не доверяю художнику-абстракционисту, если не уверен в его способности нарисовать обычные руки.
Главный принцип
Мне нравится усложнять себе жизнь. Как-то мне пришла в голову идея написать короткий рассказ от лица двухлетнего ребенка. В «Других людях» повествование ведется от лица героини. Это необычная женщина; она страдает такой тотальной амнезией, что не помнит, зачем нужны стул, или раковина, или ложка. В «Деньгах» у меня был полуграмотный алкоголик. В «Стреле времени» — такой супернаивный рассказчик, живущий в мире, где время движется задом наперед. Ты всегда стремишься увидеть мир таким, каким его до тебя еще не видели. Как будто ты так и не привык жить здесь, на этой планете. Вы слыхали о марсианской школе поэтов? Ее основоположник Крейг Рейн, автор стихотворения «Открытка марсианина домой». Оно состоит из описаний и трактовок загадочных действий, которые этот марсианин подсмотрел у землян. Например, по ночам они уединяются парами и смотрят друг про друга фильмы, сомкнув веки. Только детям разрешается страдать при всех. Взрослые уединяются для этого в комнате наказаний с водой, но без еды. Они сидят и покорно выстрадывают звуки, и у каждого своя боль, и у каждой боли свой запах. Если спросить меня, то все писатели — марсиане. Они приходят и говорят: «Вы на это неправильно смотрите. Это не так, это эдак». Желание увидеть мир заново, как будто впервые, возникло одновременно с появлением письменности. Это хочется сделать тем сильнее, чем заунывнее выглядит ландшафт планеты, и мы продолжаем выкашивать леса, чтобы производить бумагу, чтобы люди могли записывать на ней свои впечатления.
Тайна
Писатели редко говорят о своих богах, потому что эти боги даже для них загадочны. Они не знают, почему пишут; никакой психоанализ не способен объяснить, почему они пишут. Они не знают, почему, столкнувшись с неразрешимой трудностью, отправляются на прогулку, и по возвращении трудность разрешена. Они не знают, почему в самом начале романа вводят в повествование случайного персонажа, который впоследствии сыграет важную роль в развитии сюжета. Когда тебе пишется, действительно возникает чувство, что твоей рукой кто-то водит. Оден сравнивал написание стихотворения с отмыванием старой грифельной доски, покуда на ней не начнут проступать буквы.
Вымысел и правда
Том Вульф написал статью, где утверждает, что писатели пренебрегают реальным миром. Он предложил такое соотношение: 70 процентов фактуры, 30 процентов вдохновения. Но в каком-то смысле фактуру все-таки лучше нарыть у себя в мозгу. Я бы поменял местами цифры в этом соотношении: 30 процентов фактуры, 70 процентов вдохновения. Возможно, что даже 30 процентов — это чересчур. Нужно лишь несколько отсветов из реального мира, но даже их сперва следует пропустить через душу, воссоздать.
Герои
Я очень люблю цитировать два следующих высказывания. Э.М. Форстер утверждал, что выстраивает своих героев в шеренгу в первой строке романа и говорит им: «Так. Шутки в сторону». Набоков заявлял, что его герои съеживаются, когда он проходит мимо со своим хлыстом, и что однажды он видел, как целые аллеи воображаемых деревьев в ужасе роняют листву при его приближении. Не думаю, что мы с ним похожи. Я считаю, что герой — это судьба, как внутри романа, так и вне его... Мне кажется, что раз они ожили в твоем воображении, у них неизбежно появятся свои собственные идеи, и они увлекут тебя в такие места, куда самостоятельно ты бы никогда не забрел. В «Лондонских полях» вечно меняющимся героем была, само собой, девчонка. В ней было столько энергии, что я мог на нее положиться. Исправь то-то, выведи меня в следующую главу. Пожалуй, я против того, чтобы относиться к героям, как к пешкам в игре со строго оговоренными правилами. Я босс, а они моя команда. Они «мои люди» — в том смысле, как у политика бывают его люди — его тыл. Я всегда готов выслушать их идеи, хотя, конечно, право абсолютного вето остается за мной.
Ремесло
Со временем становишься эдаким прожженным профи, и все, что касается чистого ремесла, уже не вызывает трудностей, кажется простым. Тебе легче прочерчивать маршруты героев по городу, изменять места действия без былой суеты. За эпизодом, где доминирует диалог, нельзя ставить эпизод с еще одним диалогом. Это табу. И если ты собираешься его нарушить, у тебя для этого должны быть веские основания. Во всем остальном ты полностью полагаешься на интуицию. Больше ни на что. Писательский ступор, гибель писателя — результат потери веры в себя.
Отношение к коллегам
Я бы сказал, что другие писатели меня скорее вдохновляют, чем оказывают влияние. Когда я мучаюсь над предложением, которое уже родилось, но еще не обрело форму, я иногда думаю: а как бы Диккенс его сформулировал, а Беллоу или Набоков? Ты надеешься, что это поможет и тебе. Однажды, поболтав со мной по телефону, Сол Беллоу сказал: «Ну все, теперь иди работать. Задай им жару». Диккенс тоже говорит: «Задай им жару». Задай жару читателю.
Шлифовка
Уже готовое предложение я перечитываю только мысленно. О, его можно изрядно помять, но затем, прочитав, увидеть, что что-то тебя коробит, как будто сбивается ритм, какое-то слово под подозрением, а затем можно переработать предложение целиком, пока из него не перестанут выпирать локти, пока оно тебя полностью не удовлетворит.
Если бы я показал вам свою записную книжку, вы бы обнаружили массу завитушек, и стрелочек, и легких зачеркиваний, сквозь которые проступает первый вариант. Переходишь от этого к печатному тексту — и он тут же выглядит более закоснелым. Кстати, все это чепуха насчет того, что на компьютерах удобнее жонглировать текстом. Ничто не сравнится с возможностями рукописи. В ней ты переставляешь куски текста, физически не сдвигая их, то есть всего лишь указываешь на возможность перемещения, оставляя изначальную мысль нетронутой. Проблема компьютера в том, что у конечного результата нет памяти, нет происхождения, нет истории — маленький курсор (или как он там называется) дрожит где-то в центре экрана, создавая иллюзию того, будто вы думаете. Даже когда вы давно уже перестали.
Перепечатка
Закончив роман, я обычно думаю, что если не получу премии за то, что его написал, то, может, хотя бы за то, что его перепечатаю. Букеровскую премию дают за перепечатывание. Даже после двух редакций редкая страница доживает до финальной версии без того, чтобы быть полностью переписанной. В это время ты начинаешь видеть контуры книги, а не набор бессмысленных закорючек.
Дневная норма
Все убеждены, что я отношусь к разряду писателей, работающих систематически, не поднимая головы. Но я бы сказал, что занят от силы на полставки, и если удается писать с одиннадцати до часа не прерываясь, то это очень продуктивный день. Потом можно почитать, поиграть в теннис или снукер. К концу книги, когда к тебе приходит уверенность и одновременно возникает истерическое желание как можно скорее от этой вещи избавиться, можно работать и по шесть или семь часов. Но тогда тебя подпитывает энергия истерики. Хочется поскорее навести порядок на столе (хотя там никогда не бывает порядка); хочется убрать с него эти пять лет постоянных забот.
После книги
Поскольку я начал писать относительно молодым, каждый мой роман высасывал из меня все, что я на тот момент знал, и заканчивая его, я уже ни на что не был способен. Я становлюсь идиотом, когда заканчиваю роман. Все переходит туда, ничего не остается здесь.
После «Лондонских полей» я ощутил себя клиническим идиотом. Мой IQ был в районе шестидесяти пяти. Неделями я бродил, путаясь в собственных шнурках, потому что не знал, как они завязываются. Но одновременно испытывал нечто, похожее на счастье и гордость.
Темы
Твои темы не прикноплены к стене, как мишень для метания дротиков. Когда люди спрашивают: «Что вы хотели сказать своей книгой?» — ответом, конечно же, может быть только книга, все ее четыреста семьдесят страниц. А не какая-нибудь броская фраза, которая удобно помещается на значке или майке.
Читатель
Знакомясь с рецензиями и письмами, которые ко мне приходят, я нахожу, что люди воспринимают написанное мной очень лично. Это забавно: когда подписываешь книги вместе с другими писателями и сравниваешь, кто к кому подходит, то видишь в каждой очереди вполне определенные человеческие типажи. С Роальдом Далем, что вполне предсказуемо, различия в человеческих типажах было легко заметить. К нему — много детей, много родителей с детьми. С Джулианом Барнсом — его очередь состоит из таких вполне приличных, профессиональных людей. В моей очереди всегда полно, ну, знаете, оборванцев с безумными глазами и людей, которые смотрят так, будто ждут от меня какого-то сообщения лично для них. Как будто я должен знать, что они меня читали, и наш симбиоз читателя и писателя настолько глубок, что каким-то непостижимым образом мне следует знать об этом.
Журналистика
Художественная проза — это то, чем мне хочется заниматься, проснувшись утром. Если в течение дня я не написал ни строки, я собой недоволен. Когда же я просыпаюсь, зная, что мне надо заняться журналистикой, то в ванную я иду шаркая, неохотно — по многим и очевидным причинам. В журналистике ты уже не хозяин. Но я считаю своим долгом поддерживать то, что Гор Видал называет книжным трепом. Я без восторга отношусь к писателям, полагающим, что в определенный момент они становятся выше книжного трепа. Спорить о книгах — необходимо.
Режим
Я пишу каждый день, с понедельника по пятницу. У меня есть офис, где я работаю. Я выхожу из дома и отсутствую полный рабочий день. Я сажусь за руль своей мощной машины и еду три четвертых мили по Лондону до своей квартирки. И там, если только у меня нет других дел, сажусь и сочиняю, сколько получится. Как я уже говорил, у меня никогда нет ощущения, будто провкалывал весь день (хотя такое, порой, случается). Значительная часть времени уходит на варку кофе, или метание дротиков, или игру в пинбол, или ковыряние в носу, или стрижку ногтей, или глазение в потолок.
Вы знаете эту уловку зарубежного корреспондента: во времена, когда профессию указывали в паспорте, они просили написать writer1. А если попадали в передрягу и хотели скрыть свою личность, меняли «r» на «a» и становились waiter2. Мне всегда казалось, что в этом есть глубинная правда. Писать — значит ждать, для меня уж во всяком случае. Я совершенно не беспокоюсь, если все утро не могу написать ни слова. Я себе говорю: значит надо ждать, не дозрело. Иногда я думаю, что самое трудное в нашем деле — браться только за то, что дозрело. Я был удивлен, когда узнал, что отец, оказывается, испытывал патологический ужас, подходя по утрам к печатной машинке.
Мне такая пугливость несвойственна. Курильщики меня поймут: утром, после первой чашки кофе, легкие буквально умоляют тебя поскорее закурить сигарету — мое желание писать того же порядка. Оно почти физическое.
Одиночество
Я могу писать (хоть это и не очень удобно), находясь в гуще привычной семейной суматохи. Но следует признать (и не без некоторого сожаления): настоящая жизнь писателя протекает в одиночестве, его самая насыщенная жизнь протекает в одиночестве, и это главное, что отличает его от обычных людей. Одной терпимости к одиночеству тут недостаточно. Все самое интересное происходит с тобой, когда ты один.
Честолюбие
Есть два способа, к которым прибегают романисты, говоря о себе: первый — делать вид, что они в меру скромные, с более или менее реальными представлениями о своих возможностях и не вопиюще несправедливы в оценке своих современников. Другой — способ законченных эгоманьяков: твои современники — тупые черви, бессмысленно копошащиеся в канаве, ползущие в никуда. Человечество должно благоговеть пред ликом твоей значительности. Единственное, на что способны твои современники, даже самые выдающиеся из них, — позорить божественное звание литератора. Иными словами, от них одна только вонь. Открывая книгу, ты не можешь понять, почему в ней не написано о тебе. Или вот газета, почему вся газета не посвящена тебе. Мне думается, если так не считать, вообще ничего не добьешься. Эго должно быть приблизительно такого размера. Не знаю, насколько это правда, но мне рассказывал один знакомый поэт, что даже Уильям Голдинг мог прийти на литературную вечеринку к шести тридцати, делая вид, что он такой же, как все, скромный труженик пера, но в девять все замолкали, оглушенные его криком «Я гений!» Главное, чтобы было, кому это выслушать. Снаружи вы можете скромно улыбаться в ответ, и что-то возражать, и быть искрометным, и уступчивым, но внутри... «Хотите ли вы что-нибудь добавить?» — «Хочу. Я гений!» И точка.
Конечно, у этого есть и обратная сторона: потрясающая ранимость, приступы рыданий, желание свернуться в углу калачиком после плохой рецензии и все такое. Мне повезло, что я не просто писатель, но еще и сын писателя, и поэтому, как мне кажется, избавлен от этой гипертрофированной самовлюбленности. А может, я воспринимаю это как должное, потому что писательство никогда не казалось мне необычным способом заработка или времяпрепровождения. А вот моих друзей, Джулиана Барнса, сына учителей, и Иэна Макьюэна, сына военных, — представляю, как их опьяняет сознание могущественности, когда они сидят за своими печатными машинками и думают: «Мне платят деньги, потому что мои мысли интересны всему человечеству или половине земного шара, в общем, достаточному количеству людей, чтобы мне было чем заплатить за квартиру». Это должно необычайно льстить. Мне кажется, нужно быть очень сильным, чтобы на это не поддаться. Я никогда не испытывал этого пьянящего удовольствия, но, возможно, никогда по-настоящему и не страдал.
Быть писателем кажется мне вполне естественным, избранным я никогда себя не ощущал. Для меня главными остаются ощущения — ощущение жизни, или человеческого характера, или того, как тот или иной предмет выглядит, или как он звучит. Если я завтра умру — что ж, по крайней мере мои дети (которые вот-вот сюда ворвутся) будут иметь представление о том, каким я был, что меня заботило, потому что у них останутся мои книги. Вполне возможно, что мною движет идея бессмертия — пусть и только для своих собственных детей. Даже если они забудут мое лицо, они никогда не смогут сказать, что не знают своего отца.

ОРХАН ПАМУК
Записал Анхель Гурриа-Квинтана. Перевод Виктора Голышева.
Проза и поэзия
Романист по природе своей чиновник — в противоположность поэту, фигуре в Турции издавна необыкновенно престижной. Поэт — популярная и почтенная фигура. Большинство оттоманских султанов и государственных деятелей были поэтами. Но не в том смысле, как мы понимаем поэта сейчас. На протяжении веков это был способ утвердить себя как интеллектуала. Большинство из них составляли рукописные сборники своих стихов — диваны. Такова была оттоманская придворная поэзия. Это было изысканное и культурное письмо со множеством правил и ритуалов. Очень традиционное и подражательное. Когда в Турцию пришли западные идеи, эта традиция соединилась с романтическим, современным представлением о поэте как о человеке, алкающем истины. И престиж поэта еще больше возрос. Романист же — это, в сущности, человек, преодолевающий большие дистанции за счет терпения, медленно, как муравей.
Структура
Для меня очень важно деление книги на главы. В большинстве случаев я знаю весь сюжет романа заранее. И уже сочиняя книгу, я делю ее на главы и обдумываю в подробностях, что должно произойти в каждой. Не обязательно начинать с первой главы, не обязательно писать по порядку. Если я застреваю, для меня это не очень серьезная проблема, — просто продолжаю с другого места, как подскажет фантазия. Могу написать первые пять глав, а потом, если мне разонравится, перескочу на пятнадцатую.
В романе «Меня зовут красный» много персонажей, и каждому я отвел определенное количество глав. Когда писал, мне порой хотелось подольше «быть» тем или иным персонажем. Поэтому когда я закончил одну из глав Шекюре (героиня романа. — Правила жизни) — может быть, седьмую, я перескочил на одиннадцатую, тоже ее главу. Мне нравилось быть Шекюре. Переключаться с одного характера или персонажа на другой иногда тяжко. Но последнюю главу я всегда пишу в самом конце. Это твердое правило. Мне нравится дразнить себя, спрашивать, чем все кончится.
Рабочее место
Я всегда считал, что место, где ты пишешь, должно быть отделено от места, где ты спишь. Домашние ритуалы и быт убивают воображение. Они убивают во мне демона. Домашняя рутина гасит жажду другого мира, где должно оперировать воображение. Поэтому уже много лет я держу для работы специальную квартиру или кабинет вне дома. Но однажды я провел полсеместра в США, где моя бывшая жена готовилась к докторской защите по философии в Колумбийском университете. Мы жили в квартире для женатых студентов, и другого места не было, поэтому мне приходилось там и спать, и писать. Все вокруг напоминало о семейной жизни. Это меня расстраивало. Утром я прощался с женой, как будто отправлялся на работу. Выходил на улицу, проходил несколько кварталов и возвращался домой, как в контору.
Десять лет назад я нашел квартиру с видом на Босфор и на Старый город. Возможно, это один из лучших видов в Стамбуле. Квартира полна книг, и письменный стол повернут к окну. Там я провожу в среднем десять часов ежедневно. Говорят, что я честолюбив, и, наверное, в этом есть доля правды. Но я обожаю свою работу. Сидя за столом, я радуюсь, как ребенок, играющий своими игрушками. Да, это работа, но еще и развлечение, игра. Я счастлив, когда я один в комнате и выдумываю. Сильнее, чем преданность искусству или ремеслу, — эта потребность быть одному в комнате. Я соблюдаю этот ритуал, веря, что то, чем я занят сейчас, однажды будет опубликовано, узаконит мои грезы. Мне нужны часы одиночества за столом, с хорошей бумагой и авторучкой, как другому нужны таблетки от болезни. Я предан этому ритуалу.
Форма
Я забочусь о том, чтобы всякий раз у романа была иная форма. Пытаюсь изменить все. Вот почему многие читатели говорят мне: «Очень понравился ваш роман, жаль, что вы не писали в таком же духе остальные» или «Я не был поклонником ваших книг, пока вы не написали вот эту». Чаще всего такое случалось после «Черной книги». По правде, мне крайне неприятно это слышать. Экспериментировать с формой и стилем, с языком, тоном и характерами, думать о новой книге по-новому — и трудная задача, и удовольствие. А некоторые сюжеты просто требуют формальных новшеств, свежих повествовательных стратегий. Бывает, что-нибудь увидишь, или посмотришь фильм, или прочтешь статью в газете — и подумаешь: «Я заставлю заговорить картофелину, или собаку, или дерево. Когда возникает такая идея, начинаешь думать о симметрии и последовательности изложения. И говоришь себе: чудесно, никто этого раньше не делал».
Замысел
Я обдумываю вещи годами. У меня появляются идеи, я рассказываю о них близким друзьям. Я веду много записных книжек для возможных будущих романов. Иногда я их не пишу, но если раскрыл записную книжку и стал в нее что-то заносить, то, скорее всего, дело дойдет до романа. Поэтому когда я заканчиваю книгу, мои мысли могут обратиться к одному из этих проектов, и, закончив, я через два месяца сажусь за новый роман.
В середине 1990-х годов, когда шла интенсивная война с курдскими партизанами, а я приобрел известность в Турции, старые левые авторы и новые либералы хотели, чтобы я им помогал, подписывал петиции, — просили делать политические шаги, никак не связанные с моими книгами. Вскоре истеблишмент перешел в контратаку, развернул кампанию по уничтожению моей репутации. Меня поносили. Я был очень сердит. А потом подумал: что, если написать политический роман и попробовать разобраться в своих духовных дилеммах? Я происходил из верхушки среднего класса и в то же время чувствовал ответственность за тех, кто лишен политического представительства. Мое дело — искусство романа. И странно, как оно превращает тебя в аутсайдера. Тогда я сказал себе: «Напишу политический роман». И сел за «Снег», как только закончил «Меня зовут красный».
Сбор материала
Действие романа «Снег» происходит в городе Карс. Он славится как один из самых холодных городов Турции. И один из самых бедных. В начале 1980-х некая крупная газета посвятила всю первую полосу бедности в Карсе. Кто-то подсчитал, что весь город можно купить за миллион долларов. Окрестности города населены преимущественно курдами, но в центре обитают и азербайджанцы, и турки и разные другие. Когда-то были еще русские и немцы. Есть там и религиозные трения — между шиитами и суннитами. Война турецкого правительства против курдов была такой яростной, что ехать туда туристом было невозможно. Я попросил знакомого редактора газеты снабдить меня журналистским удостоверением. Человек он был влиятельный, позвонил мэру и начальнику полиции и предупредил обо мне. Приехав, я сразу посетил мэра и пожал руку начальнику полиции, чтобы меня не забрали на улице. Тем не менее какие-то полицейские, не знавшие о моем приезде, забрали меня и увезли — вероятно, с намерением пытать. Я немедленно стал козырять именами: знаю мэра, знаю начальника... Я был подозрительным лицом. Хотя Турция — теоретически свободная страна, до 1999 года всякий иностранец был подозрителен. Теперь, надеюсь, здесь стало гораздо спокойнее.
Прототипы
В Карс я отправился с фотоаппаратом и видеокамерой. Я снимал все подряд, потом возвращался в Стамбул и показывал друзьям. Все думали, что я немного помешался. Но в итоге у большинства персонажей и мест в «Снеге» есть реальные прототипы. Например, местная газета тиражом в 252 экземпляра действительно существует. Или беседа с редактором газеты, который рассказывает Ка (главный герой романа. — Правила жизни), что тот делал накануне. Ка спрашивает, откуда это ему известно, и редактор объясняет, что он слушал полицейские рации, а полиция все время следила за Ка. Так оно и было. Полиция вела за мной слежку.
Местный телеведущий пригласил меня в студию и сказал: «Наш знаменитый автор пишет статью для центральной газеты». Это было очень важно: приближались муниципальные выборы, и жители Карса распахнули передо мной свои двери. Все хотели сказать о чем-то в общенациональную газету — довести до сведения правительства, как они бедны. Они не знали, что я намерен включить их в роман. Они думали, что я напишу о них в статье. Признаюсь, это было с моей стороны цинично и жестоко. Хотя статью об этом я и в самом деле собирался написать.
Прошло четыре года. Я ездил туда и обратно. Там была кофейня, где я иногда писал и делал заметки. Мой друг фотограф, которого я позвал с собой в Карс, подслушал в этой кофейне один разговор. Я что-то писал, а посетители говорили между собой: «Что за статью он пишет? Три года прошло, целый роман написать можно». Они меня раскусили.
Шлифовка
Я всегда читаю написанное человеку, с которым живу. И благодарен, если он говорит: «Покажи еще» или «Покажи, что ты написал сегодня». Это не только подстегивает, но еще похоже на то, как мать или отец сажает тебя на закорки и говорит: «Молодец». Иногда я слышу: «Извини, мне не верится». И это полезно. Мне нравится такой ритуал. Я всегда вспоминаю Томаса Манна — он образец для меня. Он собирґал всю семью — жену и шестерых детей. И всему собранию читал. Хорошо! Папа рассказывает историю.
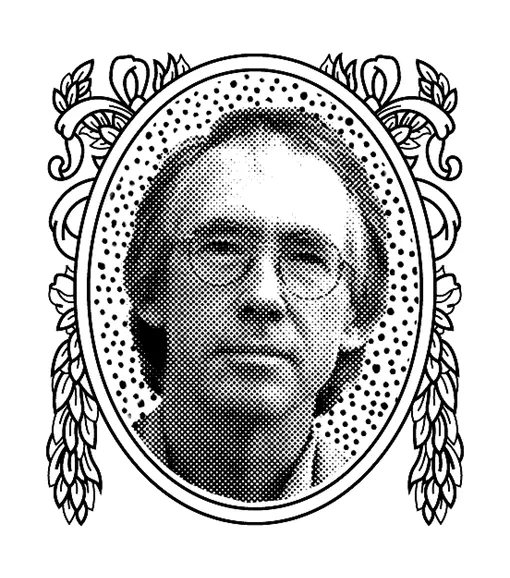
ИЭН МАКЬЮЭН
Записал Адам Бегли. Перевод Леонида Мотылева.
Удовольствие
Литературные критики охотятся прежде всего за смыслом и не понимают, что некоторые вещи возникают на странице просто потому, что доставляют их автору удовольствие. Писатель, у которого утро проходит удачно, фразы складываются хорошо, испытывает тихую уединенную радость. Хотя бы от такой мелочи, как счастливое соединение существительного и прилагательного. Или от внезапного появления незапланированного персонажа, просто выросшего из какой-то фразы. Писатели жаждут таких секунд, таких состояний. Ничто другое — ни оживленная вечеринка по поводу выхода книги, ни переполненный зал во время чтений, ни хорошие рецензии — и близко не приносит такого удовлетворения.
Режим
Я унаследовал трудовую этику от отца: как бы он ни наклюкался накануне вечером, в семь утра всегда был на ногах. За сорок восемь лет армейской службы он не пропустил ни одного рабочего дня. Я сажусь за работу каждое утро в 9.30. В 1970-е я работал у себя в спальне. Писал от руки. Печатал черновик на машинке, правил, перепечатывал. В середине 1980-х с радостью перешел на компьютер, и теперь пишущая машинка кажется мне грубой механической помехой. В текстовом редакторе есть что-то более интимное, он ближе к мысли как таковой. Эфемерность еще не распечатанного материала похожа на невысказанную мысль. Мне нравится возможность без конца переделывать фразы, мне нравится, как преданная машина запоминает все мои маленькие пометки.
Дневная норма
Я рассчитываю примерно на шестьсот слов в день и надеюсь по меньшей мере на тысячу, когда я в ударе.
Одиночество
Если неделю за неделей только и делаешь, что общаешься с призраками и перемещаешься между письменным столом и кроватью, то начинаешь тосковать по какой-нибудь работе, предполагающей встречи с людьми. Но став старше, я смирился с обществом призраков.
Замысел
Грэм Грин придумал хороший образ: опорные моменты творческого подъема он называет озерами. Когда пишешь роман — соединяешь эти озера каналами. В романе Enduring Love первыми были главы о человеке, который листает записную книжку в поисках знакомого, имеющего связи в преступном мире, а потом идет и покупает пистолет у стареющих хиппи. В тот момент я понятия не имел, зачем ему пистолет и кто он. Но я знал, что мне нужна эта сцена. Это было одно из озер Грэма Грина. Первый канал, который я прорыл, привел меня к эпизоду с попыткой убийства в ресторане. Когда я писал свой первый роман «Цементный сад», мне было интересно, как поведут себя дети, оказавшись без взрослых. Но я не мог найти верного подхода. В то время я жил на юге Лондона в Стоквелле — унылом районе многоэтажек и заросших травой пустырей. Однажды я сидел за письменным столом, и вдруг в воображении у меня появились четверо детей — каждый со своим характером. Мне не надо было их конструировать — они возникли готовыми. Я быстро кое-что записал, потом крепко уснул. А когда проснулся, уже знал, что вот он наконец — роман, который я хотел сочинить.
Вымысел и реальность
Первые десять лет сочинительства я писал формально простые небольшие вещи без возвратов во времени, клаустрофобически замкнутые, асоциальные, эротически причудливые, мрачные. К 1983-му, когда я взялся за новый роман «Дитя во времени», я начал мыслить в терминах конкретного времени. Меня стало интересовать, как крупные мировые события отражаются в частной жизни.
Роман «Невинный» стал таким опытом. Неловкий молодой англичанин, инженер-телефонист, взрослеет в Берлине времен «холодной войны», городе, поднимающемся из руин, осаждаемом призраками недавнего прошлого. Я с головой ушел в старые карты и фотографии, я сам стал инженером-телефонистом.
Но тем не менее в Берлин я не ездил. В последней главе действие переносится в 1987 год: главный герой Леонард, человек уже немолодой, снова посещает город, и я решил, так сказать, составить ему компанию. Я приехал в Берлин больным. Западная часть города с ее изобилием и самоуверенностью была совсем не похожа на ту разрушенную столицу, которую я так хорошо изучил. Я слонялся, чувствуя себя старым и сбитым с толку. Зашел в многоквартирный дом, где Леонард встречался с возлюбленной, и ощутил, как смешны эти муки любви к несуществующей девушке. Отправился на юго-запад Берлина, где раньше рыли шпионский туннель. Перелез через забор, оказался на пустыре. Восточногерманские пограничники смотрели на меня в бинокли с наблюдательной вышки. Я бродил среди насыпей и канав, находил обрывки старого телефонного кабеля, куски мешковины из Чикаго. И опять почувствовал ностальгию, тоску по времени, в котором не жил. В чужом городе я ощущал прошедшие годы и воображал себя одним из своих персонажей.
Проза и фотография
Когда смотришь на прошлое на старых фотографиях, оно приобретает кажущуюся наивность. Проза имеет перед фотографией преимущество: она не снисходит к персонажам, в ней нет, пользуясь словами Сьюзен Зонтаг, неотъемлемой посмертной иронии. Романы помогают нам преодолевать соблазн думать о прошлом, как о времени, лишенном всего того, чем наполнено настоящее. Читая «Гордость и предубеждение», мы не считаем героев наивными только потому, что они носят смешные головные уборы, передвигаются в каретах и не говорят без обиняков о сексе. Мы так не думаем, потому что получаем полный доступ к их чувствам и мыслям, к стоящим перед ними дилеммам. И если повествование нас увлекает, эти люди встают перед нами, как живые, как современники, не страдая от нашей иронии.
Воображение
Работая над «Невинным», я как-то встретился в ресторане с Майклом Даннилом, патологоанатомом из Мертон-колледжа. Я ему сказал, что задумал сцену, в которой неумелый и испуганный человек расчленяет труп. Когда я его спросил, сколько нужно времени, чтобы отпилить руку, он пригласил меня на одно из вскрытий, которые у него происходили рано утром по понедельникам. «Приходите, — говорит, — отпилим и посмотрим». Я ему: «Но как же родственники?» — «А, пустяки, мой ассистент пришьет ее обратно, и никто ничего не заметит». Мы договорились, но потом я всерьез засомневался. Я чувствовал, что роман движется хорошо, что я расписался, и мне не хотелось отвлекаться. С другой стороны, писательский долг требовал, чтобы я пошел. И тут мне повезло: мы ужинали с Ричардом Эром, и он сказал, что буду идиотом, если пойду: «Ты вообразишь себе все это гораздо лучше, чем сумеешь описать». Едва он это произнес, я понял, что он прав. Пойди я на вскрытие, мне пришлось бы стать журналистом. Мне легче точно описать то, что я воображаю, чем то, что я видел.
Темы
В 1986 году на литературном фестивале в Аделаиде я впервые прочел на публике сцену из романа «Дитя во времени», где девочку похищают в супермаркете. Я дописал черновик всего неделей раньше, и мне была интересна реакция слушателей. Едва я кончил, вскочил Роберт Стоун и произнес страстную речь. Он спрашивал: «Почему мы, писатели, пишем такое? Почему мы забираемся вглубь себя и достаем оттуда самое страшное?». У меня и сейчас нет четкого ответа на этот вопрос. Генри Джеймс говорил: «Что такое эпизод, как не иллюстрация характера?» Может быть, эти случаи нам нужны, чтобы измерить наш собственный нравственный потенциал.
Если ты не веришь в бога, тебе довольно трудно найти возможность для интеллектуальной веры в зло как организующий принцип в человеческих делах, как смутно ощущаемую сверхъестественную силу. Но это могучая идея. Это полезный способ говорить об одной из сторон человеческой натуры, и поэтому без него трудно жить. Мне кажется, труднее жить без Зла, чем без Бога.
С другой стороны, такие места, как похищение ребенка, сами по себе ставили передо мной интересные писательские задачи. В этих сценах надо было задавать ритм, делать так, чтобы фразы отбивали такт, возможный только в сценах действия. Я давал читателю действие плюс идеи. Со временем у меня развился вкус к соединению этих разнородных элементов.
Шлифовка
Именно над фразами, а не над сценами приходится работать в каждый данный момент. Если в черновике с ними что-то не так, исправить это потом будет трудно. Поэтому я пишу с самого начала медленно. Готовые абзацы проговариваю вслух, мне нужно слышать, как фразы звучат друг за другом. Черновые варианты главы читаю жене. Мне нравится представлять главу цельной и независимой единицей, чем-то вроде рассказа. Но иногда все эти правила ломаются, и остается сцена, над которой я бьюсь по десять-двенадцать часов подряд.
Детские книги
С десятилетним человеком можно говорить почти обо всем, если найти подходящий язык. И мне всегда нравилась ясная, точная, простая проза — именно такая, какую способны понять и оценить дети. Я старался не морализировать — мне не нравятся книги, объясняющие детям, как им себя вести. Я сочинял главы в расчете на двадцать пять минут чтения перед сном и читал их сыновьям.
В романе «Дитя во времени» один из героев говорит, что лучшие детские книги как бы невидимы. Ребенок не будет сидеть над книгой и смаковать изящество вашей образной системы. Он хочет, чтобы текст дал ему толчок и перенес прямо туда, к самой вещи. Он хочет знать, как было дело. Возможно, такая невидимость принадлежит к эпохе нашей утраченной невинности, и если так, то она тем более уместна в детской книжке. Это идеал, к которому стоит стремиться.
Будущее
Когда меня спрашивают, буду ли я еще писать для детей, или когда спрашивают, напишу ли я пьесу для театра, я всегда лгу и автоматически отвечаю да. Не хочу закрывать для себя возможность. Вместе с тем я знаю, что между книгами я просто сижу и дожидаюсь того, что возникнет. Этот процесс я и не могу, и не желаю держать под полным контролем сознания. Разумеется, мне хочется написать и пьесу, и еще одну детскую книжку, и ошеломляющий венок сонетов. Но что это означает на самом деле? Это означает, что мне хочется, чтобы это уже было написано. Это напоминает мне один мой повторяющийся сон. Я сижу у себя в кабинете за письменным столом и чувствую себя очень хорошо. Выдвигаю ящик и вижу там роман, оконченный прошлым летом, — роман, про который я по занятости совсем забыл. Вынимаю и сразу вижу, что это шедевр. И сразу все вспоминаю — как усердно над ним работал, как убрал в стол. Великолепный роман, и я счастлив, что нашел его. Мне только и надо, что отправить его в издательство и подольше не просыпаться.
