Муж сошел вниз. Мы смотрели, как он по частям возникает в круге света: сначала узкий лаковый носок одной туфли, потом другой, затем заутюженные отвороты костюмных брюк, длинные ноги в угольно-черных штанинах, ремень на все еще подтянутой талии школьного спортсмена, мятая, что для него необычно, сорочка с закатанными рукавами и оди-наковые отблески на часах и обручальном кольце. «Привет? Привет?» — а затем лицо, которое я так любила, изумленное темнокожее лицо моего мужа.
«История одного супружества» — роман пулитцеровского лауреата о том, что мы плохо знаем тех, кого любим. Публикуем его фрагмент
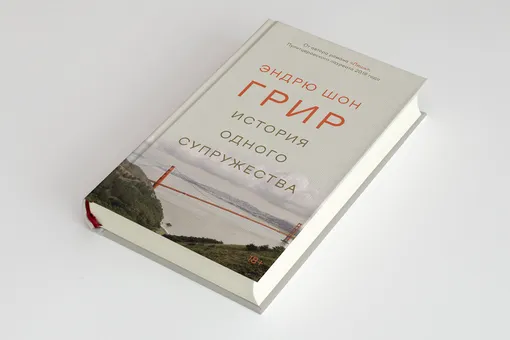
— Привет, милый, — сказала я. — К тебе пришел старый друг.
Холланд стоял очень тихо, в оцепенении, раскинув руки, как святой, и к нему бежали сын и собака. Он смотрел на Базза. А я смотрела, как в его взгляде загорается что-то похожее на презрение. Затем он уставился на меня. Почему-то вид у него был испуганный.
— Здравствуй, Холланд, — сказал Базз. Он приветственно протянул к нему руки.
Когда он обернулся к своему другу, я поняла, что мне показалось знакомым в этом человеке: он был одет как мой муж. Твидовый пиджак, складная шляпа, длинные выглаженные брюки, даже манера дважды закатывать рукава рубашки, чтобы они были чуть ниже локтя. Так начал одеваться Холланд после войны. И моментально стало видно, что мой муж, так тщательно выбиравший одежду в магазинах, которые были нам по карману, прикладывавший распродажные галстуки к уцененным рубашкам, переживавший по поводу кашне, был всего лишь доморощенным повторением стиля этого мужчины. То, что я считала его особенностью, продолжением физической красоты, оказалось имитацией. Словно восстановление утраченного портрета — это было имитацией человека, которого я до сегодняшнего дня не видела.
Он повернулся к своему другу.
— Ну привет, Базз, — ровно сказал он.
— Что ты тут делаешь?
— Да просто пришло в голову заглянуть. У тебя жена красавица.
— Перли, это мистер Чарльз Драмер, он был моим начальником...
— Да, он мне сказал.
Мужчины еще несколько секунд обменивались тревожными взглядами.
— Давно не виделись, — сказал муж. — Несколько лет, — сказал Базз.
Взгляд Холланда упал на ковер, где лежал обрывок голубой бумаги в форме затонувшего континента. Я сказала, что Базз принес мне подарок, и он, кажется, очень удивился.
— Вот как?
Пару белых перчаток. Только когда Базз уговорил меня их примерить, я заметила вышивку на правой ладони — красную птичку с задранным хвостом и простертыми крыльями, словно только что пойманную. Если раскрыть ладонь, птица шевелилась на руке, как живая.
— Синица в руке! — весело сказала я Холланду, вытягивая руку и показывая, как двигается птица.
— Синица в руке, — повторил Базз, держа руки в карманах.
Холланд, старый мой муж, ты переводил взгляд с меня на своего друга и обратно. Что ты видел? Что пронеслось перед твоим юным взором? Да, очень странную пару ты обнаружил в собственной гостиной. Нас вдвоем ты точно не ожидал увидеть. И тут, о чудо, ты засмеялся.
Ни одна женщина никогда не назовет «хорошим другом» того, с кем перестала общаться, но мужчины бросают и возобновляют дружбу с непринужденностью больных амнезией. Я предположила, что Базз как раз такой друг, старый армейский приятель, который просто отпал, когда взрослой жизнью Холланда завладели жена, сын и работа. Я повидала достаточно старых друзей Холланда, чтобы предположить, что оба они заводили дружбу так же легко, как и бросали.
Мистер Чарльз Драмер, Базз, работал в корсетном бизнесе — не самой прибыльной отрасли. Он оптом поставлял корсеты, корсажи, грации и пояса в универмаги — даже в то время это было старомодной профессией, но, если уж на то пошло, она придавала ему завидный донжуанский лоск в придачу к красоте и широким плечам, не нуждающимся в подплечниках. Он знал наши секреты. Он понимал, на какой женщине надет бабушкин нейлоновый корсет с пластинами, а на какой — последний, так сказать, вздох девятнадцатого столетия: корсетный пояс с дырочками. Он с тайным удовольствием распознавал первые ласточки бюстгальтеров с круговой прострочкой (через пару месяцев мы все обзавелись этими острыми грудями), отмечал вихляющую походку, указывающую на то, что женщина мечтает задрать юбку и поправить натирающий пояс, или — самое лучшее — видел фигуристую женщину и с первого взгляда понимал, что под платьем у нее ничего нет. Он словно бы видел нас голыми.
Очень гордился своим изобретением: назвать новую грацию «Обещание» и прилагать к каждой покупке брошюру о десятидневной похудательной диете Елены Рубинштейн. Капля соблазна, обещание надежды. Меня восхищало то, как он понимал женщин.
После нескольких первых визитов Базз стал постоянным гостем. Его присутствие придавало нашему дому какой-то новый лоск и настроение. Мне нравилось, что соседи, видя, как он приходит и уходит, будут любоваться его тщательно подобранным костюмом и привычкой, воспитанной в каждом хорошем виргинском мальчике: как только я открывала дверь, он снимал шляпу, словно я сама миссис Рузвельт. И конечно, я ценила его общество, как одинокая жена миссионера радуется каждому гостю на своем дальнем рубеже.
Однажды вечером я приготовила паровой пирог с ягнятиной и горошком и вспомнила, что в газете был конкурс, посвященный этому блюду.
— Если придумаешь ему название, сможешь целый год жить за их счет! Как тебе такое? — Я улыбнулась сыну, подозрительно разглядывавшему овощи.
Базз поблагодарил меня за угощение и спросил, что они имеют в виду под «жить целый год».
— Две тысячи долларов? — предположил Холланд, подмигивая мне с улыбкой. Я шлепнула его лопаткой по руке.
— Вот и видно, сколько ты смыслишь в домашних расходах. Приз — пять тысяч долларов. Я отрезала пирога Сыночку, стараясь, чтобы ему досталось поменьше гороха.
— Я думаю, ты заслуживаешь большего, — сказал Базз.
— Я бы поучаствовала, если б смогла придумать, как его назвать.
Холланд рассмеялся и сказал, что я и так живу за чужой счет, только за его, а не фирмы, которая печет пироги.
Сыночек в отчаянии смотрел в тарелку.
Мы придумали несколько смешных названий — «Пастушкин пирог», «Барашек, кому барашка?», — и тут мой малыш поднял голову и спросил Базза:
— Куда делся твой мизинец?
— Сыночек, — начала я. Он беспомощно поднял на меня глаза.
— Мам, у него нет мизинца.
— Ничего. — Базз вытер рот и очень серьезно поглядел на моего сына. — Задавать вопросы — это хорошо. Я потерял его на войне.
— А где потерял? В Аланнике или в Тихом? — спросил Сыночек, и мы все засмеялись, потому что он явно не понимал, что говорит. В то время этот вопрос часто задавали, наверное, он где-то услышал. Он с улыбкой огляделся кругом, будто специально хотел нас рассмешить.
— Ну все, хватит, — сказала я. — Ешь пирог.
— Пирог малышки Бо Пип, — серьезно добавил Холланд. — Стоит пять тысяч долларов.
Сыночек посмотрел в тарелку, а потом, должно быть, чтобы потянуть время, поглядел на всех нас.
— Папа был на Тихом, — объявил он.
— Базз это знает, — сказала я.
Я очень внимательно наблюдала за мужем. Мы затронули тему, которую он предпочитал не обсуждать, но он разрезал свой пирог и сказал:
— Мы не воевали вместе. Ведь Базз был СО.
Базз кивнул.
— Правда? — сказала я, пораженная тем, что Холланд сообщил такие ошеломительные сведения.
— Тихий океан, — пробормотал сын, обращаясь к горошинам.
Сознательный отказчик. В Кентукки мы таких называли уклонистами. Предмет позора, табуированная тема для застольной беседы. В те дни вся страна готовилась к войне, и было принято считать, что такие мужчины нас позорят. Сачки, трусы. Как будто мужчина пошел к алтарю, а там сказал: нет, все-таки я на ней не женюсь. Быть уклонистом — необычайный выбор для молодого человека, и для моего мужа-солдата крайне странно иметь такого друга. Это не укладывалось у меня в голове. Но война была, как мы все знали, временем тайн. От такого откровения Базз покраснел. Теперь я понимала про него меньше, а не больше. Как он потерял палец, если не был в бою? Базз посмотрел мне в глаза и сказал: «Время было тяжелое», — но мне показалось, что он пытался сказать что-то другое.
— Эта горошина на меня смотрит, — сказал Сыночек, и я велела отложить ее в сторону.
— Нет, съешь эту горошину, — заявил Холланд.
— А как вы тогда познакомились? Если ты не был на войне? — спросила я Базза.
— В госпитале, Перли, — ответил Холланд и отпил пива. Он имел в виду тот госпиталь, куда сам угодил после того, как его корабль затонул в Тихом океане.
— Там что-то напортачили, и мы оказались в одной палате, — добавил Базз.
— Точно напортачили. В жизни у меня не было худшего соседа, — сказал Холланд.
— Я был очень аккуратный. И не доводил сестер, как некоторые.
— Не я!
Я положила им еще по одному куску, заметив, что Сыночек свой только раскрошил. Села за стол. Помолчав немного, я сказала:
— Но я не понимаю.
— Что, милая? — спросил Холланд.
— Как отказчик оказался в военном госпитале?
Горошина прокатилась мимо солонки и упала со стола.
— Ой-ей, — сказал сын. Холланд уже открыл рот, чтобы ответить, но Базз опустил вилку и сказал:
— СО были в ведении армии. Нас поместили в военный лагерь на севере. — При словах «на севере» он показал кудато за пределы дома. — А меня отправили в тот госпиталь, потому что я был «пункт восемь». — «Пункт восемь»?
— Да. Я немножко сошел с ума.
Я взглянула на Холланда, он отвел глаза. Невозможно обсуждать все это так непринужденно.
— Пирог малышки Бо Пип! — крикнул Сыночек. Он давил горошины на тарелке и не обращал внимания на разговоры про войну.
