Когда я буду умирать, мне захочется в последний раз взглянуть на гравюры Гранвиля, поразившие меня в детстве. Речь идёт о его иллюстрациях к Гулливеру.
Александр Бренер фантазирует о последней встрече с Жаном Гранвилем
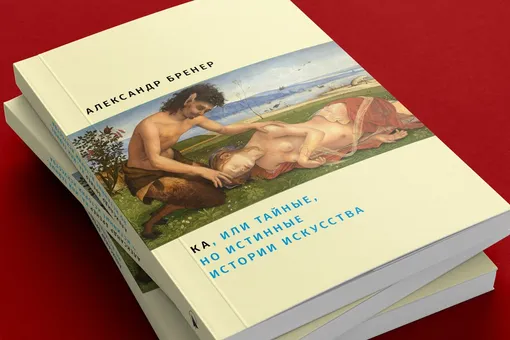
О ПОСЛЕДНЕМ СВИДАНИИ С ГРАНВИЛЕМ
Их под рукой, конечно, не будет — помирать я буду без книжек.
Поэтому мне не останется ничего другого, как вызвать самого автора, чтобы он напомнил мне о своих виденьях. Он появится быстро, как хорошая скорая помощь.
Я поприветствую его и заговорю порусски, но он, разум ется, ничего не поймёт.
Когда же он обратится ко мне на французском, не пойму его я.
Тут он заметит мою растерянность и кивнёт на лиловую папку, торчащую у него подмышкой.
Там будут гравюры, как я сразу догадаюсь.
Он развяжет тесёмки на папке и скажет (теперь я почемуто его уразумею):
— Если тебе не противно смотреть, как другой смотрит, может быть, посмотрим вместе?
Его тихий, мурлыкающий голос меня успокоит:
— Вот, погляди: я изобразил путешествия капитана Лемюэля Гулливера, которые некоторые считают выдумкой Джонатана Свифта, но я всегда был уверен, что они достоверны. В школах нас учат во всём сомневаться и уметь забывать. Не знаю, хорошо это или плохо. Скажу лишь, что приключения Гулливера были для меня ничем иным, как отправной точкой для моих собственных улётов. Кроме того, всегда лучше путешествовать не в одиночку, а с надёжным другом.
Тут мы оба погрузимся в рассматривание его картинок. Угбар.
Укбар.
Оокбар.
Оугбар. Лилипутия. Бробдингнег. Бальнибарби. Лапута.
Так в последние минуты жизни я забуду всё личное, всё мучительное — все ошибки и унижения, испытанные мной за долгие десятилетия, промелькнувшие незаметно.
— Видишь, — скажет Гранвиль, — не так важно смотреть, как пересматривать.
Я задумаюсь над этим высказыванием, но так и не охвачу его полностью: всё внимание уйдёт на гравюры.
А Гранвиль продолжит:
— Когда я жил в Париже, этой столице девятнадцатого столетия, считалось позором не знать о всех тех событиях, которые каждый день происходили, с утра до вечера. Планета была заполнена призрачными сообществами, такими, как Вавилон, Крым, Королевство Румыния, Бельгийское Конго, Соединённые Штаты Америки, Британская и Римская Империи, Европейский Союз, Аравия, СССР, Ассирия и кантон Ури. Кроме того, все считали, что непременно нужно умножать род человеческий и печатать в изобилии деньги. Тут он прервётся, высморкается в кружевной платок и посмотрит на меня в изумлении, словно не веря тому, что говорит:
— Но сам я никогда не разделял подобных воззрений. Меня гораздо более интересовали восхитительные байки в полдюжине книг, которые мне довелось прочитать и проиллюстрировать. Впрочем, печатание книг, как и денег, тоже было одним из страшнейших недомоганий человечества, ибо позволяло до безумия множить досужие истории и никому не нужные аргументы по поводу вещей малосущественных. Только подумай: в Нидерландах они до сих пор едят коров!
Он хихикнет, в то время как я буду рассматривать гравюру, где бывший хирург Гулливер лежит, опутанный нитями лилипутов.
А Гранвиль продолжит:
— Только опубликованное считалось истинным. Изображение и печатное слово были более реальны, чем вещи и события. Быть — значило быть нарисованным или сфотографированным! А скажи, ты читал повесть под названием «Чёрная курица, или Подземные жители»?
Я кивну, а он вдруг воскликнет ни к селу, ни к городу:
— У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастье ближнего!
И снова прервётся и посмотрит на меня выжидательно.
— Это цитата? — спрошу его я.
— Разумеется. Кроме цитат, уже вообще ничего не осталось.
Весь человечий язык — цитата.
Я промолчу.
— Но мои картинки, как ты сам видишь, не таковы. Они представляют собой отнюдь не очередную цитату, а единственное великое открытие той смехотворной эпохи — улёт в пространство!
Он посмотрит на меня торжествующе и продолжит — немножко как попугай:
— В моё время было множество экипажей, коней, омнибусов, поездов, самолётов, поездок и полётов — но ни одного подлинного улёта! Послов, красоток, миллионщиков, актёров и президентов возили, словно калек или младенцев, в длинных ревущих автомобилях, окружённых мотоциклами и алчущими фотографами. Будто им отрезали ноги, как говаривала моя бабушка. Но я, как ты сам понимаешь, летал не на бензине и не на электричестве. Я просто взлетал, как гусь, улетал — и не возвращался! Раз — и нету! Как скворец или шмель: жжжижижи! Это я и называю: улёт!
И с улыбкой он добавит:
— Таково истинное перемещение в пространстве: с планеты ли на планету или из сеней в огород.
Тут среди гравюр, которые я буду перебирать, возникнет одна, не относящаяся к путешествиям Гулливера.
На ней будет изображён диковинный парад пьяных планет — картинка, заключающая в себе поистине океаническую нездешность.
— Сие я нарисовал, когда в последний раз улетел из окна, — Гранвиль произнесёт эту фразу с какойто особой нежно стью. — К тебе, понимаешь? И помни: невозмутимость мудрецов — это всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине сердца.
Тут я вспомню, что он покончил с собой, выбросившись из окошка.
Под этой гравюрой в папке уже ничего не будет — только самый последний чистый обрывок ватмана.
— А эта картинка нарисована чернилами, которые твои глаза ещё не могут увидеть, — скажет, улыбаясь, мой посетитель. — Милая вещица, не правда ли? Если она тебе нравится, можешь взять её в память о будущем друге.
Я поблагодарю его и положу подарок на исхудавшую грудь. Тут Гранвиль даже не встанет и не попрощается, а просто улетит по своей привычке — незаметно, мгновенно, неизвестно куда.
А я останусь лежать и смотреть на пустой кусок бумаги, на котором скоро, совсем уже скоро возникнут линии, которые нарисует ктото неизвестный, — материалами, ныне запрятанными глубоко в недрах планеты.
Улёт — это путешествие подальше, чем на бразильские курорты.
