Первая прочитанная книга
Писательница Оксана Васякина — о книгах, которые на нее повлияли

Я помню первую непрочитанную книгу — это был «Чиполлино». Меня бесил Чиполлино, меня бесила книга тем, что она толстая: это было издание с коричневыми старыми страницами, неприятными наощупь. Коллизия, которая вокруг Чиполлино разворачивалась, была мне неинтересна — я была медитативным ребенком, и динамика меня не очень увлекала. Книга лежала у меня в комнате, и мама просто проверяла количество прочитанного — я обманывала, каждый раз оставляла закладку на новой странице.
Кришнаиты и Камасутра
Моя семья была как любая другая постсоветская семья. У нас были Джек Лондон и всякие собрания сочинений, куча детективов. В стенке книги стояли в два ряда, но больше всего меня привлекали две книги, появившиеся уже после моего рождения. Первая книга, вернее, первая коллекция книг — издания кришнаитов, среди которых — «Бхагавадгита» с цветными картинками. Маме их давали на заводе почему-то. Меня привлекали эти картинки, они были красивые. Не то чтобы я их читала, но листала. Плюс это были девяностые, такой нью-эйдж, появилась группа «Энигма», и мне кажется, что у меня смешались ощущения от этих книг с видеороликами, которые я видела. Вторая книга, я не помню, как она называлась, была в потертой суперобложке, про женское и мужское здоровье со схемами из Камасутры. Она лежала очень далеко от меня, но я ее нашла, когда протирала пыль на книжной полке. Потом, когда никого не было дома, доставала ее и рассматривала много раз.
Реальный кайф
У меня были прекрасные детские книги с иллюстрациями. Моя любимая — книга русских сказок, большого формата, с прекрасными и одновременно чудовищными иллюстрациями, где Аленушка идет по темной тропе к избушке Бабы-яги, и избушка вся состоит из черепов. У Аленушки в руке такой посох с черепом, который светит (иллюстрации Ивана Билибина. — Правила жизни). Вот это был реальный кайф, я завороженно их рассматривала. При этом было очень страшно.
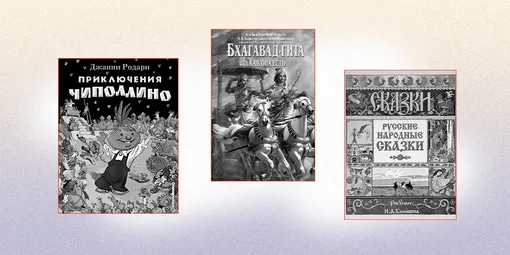
Книжка про гиперопеку хозяйки над осликом
Одна из самых впечатляющих книг, которая была у меня в детстве, — книга с переводом французской песенки про бедного ослика. Там бедный-бедный ослик, болят у него ножки, хозяйка ему сшила какие-то сапожки. В книжке описывается ситуация гиперопеки хозяйки над осликом. Мне не очень нравился этот стишок, но мне его постоянно читали, и я его выучила. Судя по всему, по этой книге меня учили читать. Меня, как ребенка, удивляло, что хозяйка сшила ослу сапожки. Он же стоит в хлеве, а хлев грязный, а сапожки чистые и красивые, они же испачкаются. Зачем ослику чепчик? У него же по-другому устроена голова! У меня плохо было с воображением: когда подруга показала своего пупсика и сказала, что у него есть мячик, и вместо мячика показала небольшую ягодку крыжовника, я подумала — вот она дурочка, это же крыжовник! Я, наверное, пишу автофикшен потому, что не могу ничего придумать.
Первое столкновение с поэзией
У меня были достаточно хорошие учителя в школе. Я училась в первой и единственной гимназии Усть-Илимска. Английский с первого класса, что скорее усугубило отношения с языком, но у нас были очень хорошие преподавательницы русского и литературы. Когда нам рассказывали про конец девятнадцатого — начало двадцатого века в русской поэзии, я слушала с открытым ртом. И когда преподавательница написала на доске список течений: символисты, футуристы, имажинисты, акмеисты, я чуть не упала со стула. Мне тогда показалось, что учительница обладает каким-то сокровенным знанием. И я чувствовала, что мне обязательно тоже это все нужно будет узнать. Иначе зачем вообще быть?
Преподавательница назвала фамилию Мандельштама, затем прочитала стихотворение, кажется, из «Камня» — про эмаль («На бледно голубой эмали, / Какая только мыслима в апреле, / Березы ветви поднимали / И незаметно вечерели». — Правила жизни). Я помню, что это была весна ранняя, такая хорошая разгулявшаяся сибирская весна, капель, яркий свет в классе. С поэзией я встретилась именно тогда.

Два Мураками
Когда я училась в старшей школе, в Усть-Илимске появились магазины с канцеляркой, где был угол, в котором продавали хиты продаж по стране, — в одном таком углу были книги Мураками. И вот Мураками взрастил во мне много чего, в первую очередь то, как можно описывать зоны невидимого опыта. Я читала и Рю Мураками, и Харуки Мураками. Рю про бунт и мертвечину. «Дети из камеры хранения» — о молодых людях, которых в младенчестве подбросили в камеры хранения на вокзале. Эта их оставленность взрастила в них ненависть к миру. В итоге они нашли ядовитое вещество, датуру, которой отравили Токио. А в Харуки меня удивлял покой, с которым он описывал смерть и странные отношения, которые не вписываются в традиционные рамки. В «Норвежском лесу» парень с девушкой начинают встречаться, потому что потеряли близкого человека — ее парня и его друга, у них начинается такой странный травматический роман, который даже не проговаривается, просто что-то происходит. Это меня удивляло — чтобы писать литературу, не обязательно придумывать условного Распутина или историческую панораму разводить, можно просто описывать частные вещи, при том достаточно сдержанно. Я не думала тогда, что буду писательницей.
Что дала Донцова?
У бабушки была полка с женскими романами, в которых были викинги и классные сексуальные женщины. И была полка с детективами, в которых странненькие женщины случайно раскрывают преступления. Я читала всю бабушкину Донцову. Дарья Донцова — супер. Хочется вспомнить статью в «Домашнем очаге» о том, что Устинова и Донцова — постсоветские писательницы-феминистки. У Устиновой героиня монументальная, а у Донцовой все какие-то не такие, но умные и везучие. Меня завораживало, что все эти романы сделаны по одной и той же схеме — я видела структуру. Мне кажется, Донцова научила меня видеть, выводить структурную решетку произведения, понимать ее. Донцова дала мне очень много. И еще, девочке, живущей в Усть-Илимске, показала, как люди живут в Москве.

Гарри Поттер, атрибуты и сообщества
«Гарри Поттера» и Толкина мне привозили мамины подруги, жившие в тот момент в Иркутске. С Толкиным не сложилось — слишком фантазийный мир, слишком текст, медленно развивающийся, и даже «Хоббит, или Туда и обратно»: казалось бы, туда и обратно — неужели нельзя побыстрее, там все нерасторопно. А «Гарри Поттер» стал для меня объектом причастности. Мы часто используем книги как атрибуты — вот у нас есть такая книга, соответственно, мы принадлежим к определенному сообществу. Например, потом, будучи студенткой Литературного института, я покупала книжки Фуко и Бурдьё, чтобы принадлежать к сообществу левых интеллектуалов. Я очень долго хранила «Гарри Поттера», даже перевозила из города в город, мне казалось, что эта книга — символ моего будущего освобождения от мира. Мне казалось, что она обязательно меня выведет туда, куда я хочу прийти, она выглядывала ко мне из какого-то нового, свежего мира — не сказочного, именно реального, куда мне хотелось переместиться. В итоге не знаю, куда она делась: я то ли отдала ее, то ли подарила, а может быть, она осталась в Усть-Илимске.
Со стихами по-настоящему
Со поэзией по-настоящему я встретилась лет в двадцать, когда начала писать дурацкие стихи (на «Стихах.ру» недавно закрыли мою страницу, чтобы никто не смог их прочесть). Я тогда жила в Новосибирске, работала в кофейне. Покойная Лена Макеенко делала фестиваль, который назывался «Поэмание», и меня пригласили туда участвовать в слэме (поэтическое мероприятие, где разные поэты читают стихи и состязаются в мастерстве. — Правила жизни) Андрея Родионова. Лена выкладывала в паблике этого фестиваля аудио и видео со стихами: «Мария Степанова читает стихи», «Елена Фанайлова читает стихи», «Вера Полозкова читает стихи», Воденников, Львовский, еще кто-то. Мне кажется, в тот момент, когда я их услышала, я поняла, что все это время куда-то не туда шла. Я была неподготовленным читателем. Часто говорят, что для того, чтобы читать современную поэзию, надо быть подготовленным читателем, но я просто работала на работе, танцевала на вечеринках и пила пиво.
Я была, что называется, человеком творческим, но к современному искусству, к современной культуре не имела никакого отношения — я в музее не была ни разу на тот момент. Когда я услышала те стихи, то, просто как крыса на флейту, пошла к этим стихам, и мне ничего больше не надо было. Я тогда поняла, кто я, поняла, что буду писать, вот такие стихи у меня будут. Я села на поезд и уехала в Москву — и приехала, поступила в Литературный институт.
Учеба меня, конечно, шокировала. Мне нужно было читать Гесиода. Мне нужно было читать «Одиссею». Я, что называется, с мороза попала — тусовалась на слэмах у Родионова, и тут мне рассказывают историю древних цивилизаций, историю русского языка, историческую грамматику русского языка, стилистику, античку, древнерусскую литературу. А я же не училась нигде никогда, не умею учиться. Но пришлось.
В лите я тусовалась с левыми. Мы читали французских философов, как я сейчас понимаю, чепуху. У меня был очень серьезный конфликт с тем, что мы читали. Это моя большая боль: я, как женщина, была не проявлена даже там, где все было настроено на борьбу за равенство. Вот я читаю Рансьера «Несогласие» — и он там начинает с Античности и делит полис на тех, у кого есть голос, и на тех, у кого нет голоса. Но я понимаю, что я ни к той, ни к другой группе не отношусь хотя бы потому, что Аристотель делил на группы горожан, которыми могли считаться только мужчины. И Рансьер на это опирается. Я, с одной стороны, пыталась это впитать потому, что это был маркер некоей продвинутости; с другой стороны, у меня был очень простой вопрос: как мне применить себя в этой истории, как применить собственный опыт? Почему я всегда должна читать про других в то время, когда меня нигде нет? В этом был очень большой конфликт с этими прекрасными левыми философами конца семидесятых годов. Сейчас у меня нет конфликта, я спокойно читаю их.

Найти свой язык
Когда выезжаешь из Усть-Илимска, ты все время находишься в ситуации изучения новых языков. Мой отец был бандитом, потом шофером, мама работала на заводе — это один язык. Ты приезжаешь в Новосибирск — и тебе приходится учить язык новосибирский. Ты приезжаешь в литературный институт — и тебе надо учить язык литературного института; в лите попадаешь в тусовку — там язык постструктуралистской философии. И конечно, это напряжение, когда ты должна учить языки, причем в рамках собственного языка. Сейчас я шпрехаю неплохо — могу и дискурс сказать, и всем на Фуко разложить все, что нужно. Но при этом, я чувствую, говорю на нем с акцентом. У меня осталось много книжек с тех времен, я к ним возвращаюсь и перечитываю и еще раз осознаю то, насколько это была попытка врезаться в колониальный язык. И конечно, когда я познакомилась с феминизмом и с феминистской теорией — мне стало легче. Я наконец-то нашла язык, который мне был необходим.

Настольные книги
Сейчас, когда я преподаю, есть книги, которые я со стола даже не убираю потому, что они мне постоянно нужны. Во-первых, у меня всегда лежит Кирсти Эконен «Творец, субъект, женщина. Стратегии женского письма в русском символизме» — это моя настольная книга, я могу ее даже не открывать, но я на нее смотрю и мне становится спокойнее. Еще одна — это «Прорыв к невозможной связи», сборник статей Кукулина о неподцензурной и современной поэзии. У меня стала настольной книгой буквально недавно, но уже вся исписанная и исчерканная, «Гендер в неофициальном советском искусстве» Олеси Авраменко, вышедшая буквально месяц назад в «Гендерных исследованиях» в НЛО. Мне часто задавали вопросы на парах: почему в неподцензурной советской поэзии так мало имен? И я объясняла как могла. Потом оказалось, что Олеся Авраменко написала на эту тему целую диссертацию много лет назад — просто ей не дали защититься. Мы с ней, кстати, познакомились и подписали друг другу книги — это была прекрасная встреча на ярмарке «Нон-фикшен». У меня лежит толстенный том Орлицкого по стиховедению, у меня лежит Торил Мой «Сексуальная/текстуальная политика», лежит «История европейской женщины», вышедщая в издательстве «Высшей школы экономики». Еще с некоторых пор у меня лежит книга «Страсть» Ирины Жеребкиной, потрясающая книга, которая сейчас и навсегда актуальна, и несколько номеров журнала «Гендерных исследований». А поэзия — это буквально вот недавно открытая «Седьмая щелочь» Барсковой, собрание избранных сочинений Барсковой, которое мне Женя Некрасова подарила на день рождения. Еще у меня лежат поэтессы серебряного века — Софья Парнок, Аделаида Герцык, тут еще Анна Альчук... У меня такой большой стол! Так как я сейчас делаю для Write like a girl рассылку про женские поэтические тексты, лежит том со стихами Поликсены Соловьевой. И так как я патриотка наших женских издательств, у меня лежит Поль Пресьядо от NoKidding Press. Я его просто читаю. Есть книги, которые до сих пор нераспечатанными лежат, например. Просто не всегда успеваешь — у меня Витткоп лежит «Мастерская подделок» и «Ада» Гертруды Стайн, запечатанные.

Сорокин бесит
Книги — это очень хорошие друзья и хорошие собеседники, хотя иногда бесят. Например, что кто-то что-то сделал, а я про это думала и не сделала. Бесит страшно. Иногда, наоборот, я чувствую такую сильную недостаточность, и меня это очень раздражает. Например, Сорокин, «Роман». Я открыла эту книгу, когда училась в Литературном институте, мне казалось, что обязательно ее нужно прочитать от корки до корки, чтобы если тебя потом спросят, ты могла бы ответить. Такой подход отличницы. Я даже себе освободила время для того, чтобы его прочитать. И на первых же страницах я поняла, что это невероятная скука — прямо невозможно читать. Как он сделан, я понимаю. Но я понимаю, что этот текст меня вообще не учитывает. Это текст сообщества, которое росло и с молоком матери впитывало великую русскую литературу. И я этим человеком не была. Прием мне понятен, но этот текст исключает меня как субъектку. Сначала это меня ужасно разочаровало, я испытывала какой-то дикий комплекс, думала, что нужно дико много всего прочитать, чтобы испытывать чувство такого яркого узнавания от такого текста. Но потом поняла, что я не обязана учить этот язык, и то, что этот текст меня исключает, — это его проблемы, так как этот текст не будет учить мой язык. Теперь, когда вижу такие тексты, стараюсь даже к ним не прикасаться, чтобы не тратить время.
О феминистской литературе
Меня, конечно, очень питало то, что есть издательство «Колонна», — я читала Габриэль Витткоп, я читала Гертруду Стайн и Моник Виттиг, читала Кэти Акер. Я была ошеломлена, когда читала «Большие надежды» Акер. Я поняла, что это та модель, которая мне подходит. Я представляю себя далеко не Кэти Акер как писательница, но ее напор меня восхищал. Феминистские книги стали появляться в девяностых и нулевых, но потом эта волна сошла, к тому же это была преимущественно академическая литература. Все важные феминистские тексты в переводах Ольги Липовской до сих пор можно найти во «ВКонтакте». Собственно оттуда я их и брала. Когда я окончила Литературный институт, стали появляться феминистские книги для широкой аудитории. Я счастлива, что живу во времена, когда можно прийти в книжный и купить, например, «Манифест» Нгози Адичи.

Мэгги Нельсон, «Аргонавты»
Для меня эта книга была открытием года. Когда я дописала «Рану», я стала читать «Аргонавтов» и нашла очень много непрямых встреч с Нельсон, как будто все это время писала ей письма. Нельсон — американская интеллектуалка, уроженка среднего класса со своей квир-историей и живет в другом контексте, но мне нравится, как она осмысляет жизнь. Ее «Аргонавты» — очень простая книга. Это история рождения и смерти. Гегемонная гетеросексуальная культура стремится к монополии на норму. Нельсон критически переосмысляет мысли и высказывания авторок предыдущих времен, и, рассказывая историю рождения собственного сына, смерти матери своего партнера, принятия его перехода, обращается к самым базовым, общечеловеческим вещам, чтобы уместить все происходящее в своей голове — и тем самым нормализует свой союз. Это монументальный жест — рождение, жизнь, смерть, такая биологическая возможность, это действительно то, что ставит нас всех в один ряд. Я не стремилась дочитывать эту книгу, потому что мне хотелось оставаться с ней как можно дольше. Это потрясающий труд.
Возвращенные имена и женская история
Для меня очень важен разговор про забытые имена, причем забытые несправедливо. Я понимаю, что процесс забывания, вымывания женских имен из истории литературы сегодня может коснуться и меня. Мы всегда обречены на забвение. Несмотря на все движение вперед, которое происходит в мире, этот риск сохраняется.
Я обращаюсь к забытым фигурам еще и за поддержкой. Для меня очень важно знать и чувствовать, что до меня были пишущие женщины. Недавно я переоткрыла для себя Поликсену Соловьеву, она была лесбиянкой. Соловьева была из круга символистов, и ее поэтика полностью отвечает тому времени. Из-за того что она не была женой великих поэтов, в истории она осталась как сестра философа, так и осталась на периферии. В «Письме к Амазонке» Цветаева пишет, что вокруг старой четы (Соловьевой и ее возлюбленной) была такая пустота, которой нет ни у одной «нормальной» семьи. У самой Соловьевой есть стихотворение о том, как они с возлюбленной идут всю жизнь рука об руку, так никем и не понятые. Мне кажется, это важный момент и про лесбофобию, и про обесценивание человеческих чувств вообще. Другой пример — Софья Парнок, ее из-за отношений с Цветаевой все-таки подвытащили.
Все глубже и глубже погружаясь в начало двадцатого века, в девятнадцатый век, я понимаю, что очень много вещей уже было сделано. Как в философии происходит преемственность? Аристотель что-то написал, в двадцатом веке, когда пишут работы, на него по-прежнему опираются. У нас же получается, что в литературе, написанной женщинами, этой преемственности нет. Мне бы хотелось сделать ее частью феминистского дискурса. Именно поэтому я предложила идею переиздания альманаха «Женщина и Россия», его переиздали под названием «Феминистский самиздат. 40 лет спустя». Участниц альманаха не знает молодое поколение феминисток, а это наша история, ее нельзя забывать.
Это еще и деколониальный проект — нам кажется, что мы живем в пустыне; когда мы говорим о феминизме, мы называем западно-европейские, американские имена, даже учитывая, что это разные исторические и социальные контексты. Меня это угнетает. Я хочу искать своих феминисток в литературе, вести с ними диалог — я стою на том, что у русского феминизма свой путь, и мне кажется, он интересный и удивительный, мистический, я бы даже сказала. Мне классно жить и знать, что Шкапская жила и писала свои стихи, что Хабиас в начале двадцатого века писала стихи о женском оргазме, что Бунина написала «Пекинское ристалище» и «Разговор с женщинами». Когда я понимаю, что я стою на такой почве, — мне не страшно заниматься письмом. И Страх письма, помимо социальных институтов, которые на нас давят, связан с этим забвением — нам кажется, что мы все время совершаем трансгрессию. На самом деле все трансгрессии уже совершены, наша задача — сохранить преемственность.

Книги о путешествиях
Есть два романа-путешествия, которые произвели на меня огромное впечатление. Это был «По следам предков» Чатвина о том, как он едет в Австралию, где люди пытаются проложить железную дорогу на сакральных для аборигенов участках. Второй текст — «Уничтожить всех дикарей» Свена Линдквиста. Он едет в Африку по следам книги «Сердце тьмы» Конрада, находится в диалоге с ним. Он рассказывает о чудовищном геноциде местного населения из-за добычи золота. Показывает, как технический прогресс привел к тому, что некоторые племена уничтожали практически полностью.
Еще я читаю про вынужденные путешествия, в которых человек оказывается не по своей воле, — это мемуары ссыльных. Это, конечно, всегда еще и история возвращения — возвращения домой. Я бы посоветовала Хаву Валович — она описывает опыт родов в ГУЛАГе, Тамару Петкевич «Жизнь — сапожок непарный», «Сколько стоит человек» Ефросиньи Кирсновской, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Еще бы я посоветовала дневники Ады Фидерольф, которая была близкой подругой Ариадны Эфрон. Она не претендовала на художественное высказывание, она фиксировала моменты ссылки — у нее есть фрагмент, которого не видела ни в одном из ссыльных текстов, где она описывает жизнь лесбиянок в отдельном поселении. Ее отправляют на лагпункт, она приезжает туда с какой-то миссией и обнаруживает, что мир на этом лагпункте сильно отличается от привычного лагерного. Там все какое-то прибранное, есть женщины работающие, а есть неработающие, там все подушечки вышитые, одни женщины феминные, другие маскулинные. Она не сразу понимает, почему этот мир такой.

Книги для «Раны»
Сейчас я понимаю, что думать про «Рану» я начала достаточно давно, просто настал момент, когда уже можно было начать ее писать. Думать об этой книге я начала, когда вышла книга Сьюзен Зонтаг «Болезнь как метафора». Мама уже начинала болеть — я была в том состоянии, когда книгу не читаешь, а пьешь. Ты даже уже не понимаешь, что там происходит, но ты реально настолько в ней, в какое-то состояние входишь, которое помогает тебе с этой книгой взаимодействовать. Я сейчас хочу перечитать ее, уже после того, как я написала «Рану». В «Ране» я упоминаю Зонтаг, но уже мертвую — на фотографии Лейбовиц.
Вообще я находилась в контакте с Барсковой — «Живыми картинами», очень много думала о тексте Лидии Гинзбург, читала в тот момент полузаписки-полурассказики Елены Гуро, очень много думала про Барскову — у меня даже есть фрагмент, посвященный Барсковой — я писала о ее концепции обретаемого времени. Еще была Хелен Сиксу с ее «Хохотом медузы», была Кристева с ее «Черным солнцем меланхолии». Все, что я сейчас называю, — это не художественная литература, это скорее гибридные тексты, которые либо осмысляют письмо, либо работают с письмом и с образами мира, в котором мы живем. Но для «Раны» ключевой текст — это не книга, это эссе Люс Иригаре «Одно не может идти без другого» об отношениях женщины с матерью. Я им предваряю «Рану», и последняя глава открывается эпиграфом из этого эссе.
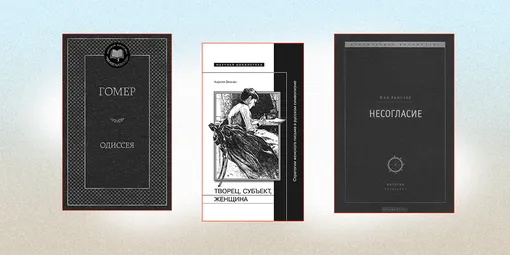
Антология мечты
Этой книги еще нет. Как в шкатулочку собираешь драгоценности, я бы собрала туда много-много разных текстов, начиная с Гуро, заканчивая Барсковой. Туда бы попали тексты и Фанайловой, и Рымбу, и Анны Глазовой. У меня бы была своя гибридная антология, в которой кусочки текстов лежат — к которым я могу возвращаться. Может быть, еще какие-то тексты Драгомощенко, я бы туда положила пару стихотворений Аллы Горбуновой, может быть, даже кусочки из Евгении Гинзбург. Фаину Гримберг я бы туда положила — она бы не простила мне этого, но тем не менее. И Владислава Ходасевича! Он мой вообще друг, люблю его «Некрополь». И Мандельштама, конечно.
