Вечное сияние искусственного разума: глава романа «Исландия» Александра Иличевского
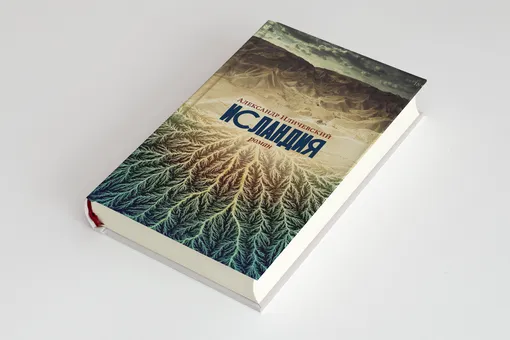
Странные ощущения стали возникать у меня во время поездки в Берлин — историческое время стоит на месте и едва ли не пятится, а личное и технологическое бегут хоть и врозь, но наперегонки, неудержимо. Десять-пятнадцать лет кажутся одновременно «вчера» и совершенно иным миром, эффект подобен в некотором смысле анабиозному пребыванию в вылетевшем за пределы Солнечной системы корабле, где мизансцены всё те же, за окном всё те же звёзды, а личная жизнь, всё, что любил, оставлена далеко позади и непонятно, как к ней относиться, ибо сожаление далеко не первое, что всплывает на поверхность. Многие исчезли, многие выросли, будущее неведомо и безразлично к тебе самому, как накатывающая в лоб звёздная бездна. Наверное, так, приблизительно, выглядит время Екклесиаста в мире, стремящемся в иную эпоху, когда прошлое бросается волкодавом на спину новому.
Иерусалим — столица этой эпохи Екклесиаста, городпризрак, о величии которого грезит половина мира и ничего не делает для его, величия, реального воплощения. Иерусалим — единственный город, чья физическая природа отстоит от его слепка в культуре настолько, что в сравнении со своим образом он видится только грудой камней, беспорядочно разбросанных по Иудейским горам. Сколь бы ни была очевидной и непреложной эта разница, в ней ощущается несправедливость. Благодаря ей город заброшен, отринут от мира. Притом что мир ему стольким обязан, что пора бы уже ему, миру, обратить внимание на место, которое можно было бы назвать его родиной. Вместо этого мы видим и испытываем нелюбовь, пренебрежение со стороны почти всех столиц. Парижу, Лондону и прочим совершенно безразлично, что происходит в той области, без жертвенного бытия которой не существовало бы их собственной истории. Иерусалим небесный — дополнение Иерусалима земного, а не его замена.
Особенно лихими бывают иерусалимские зимы, промозглые, ветреные, дождливые. Тогда в нашей квартире задувает изо всех щелей, и по вечерам Мирьям приходит ко мне погреться у масляного обогревателя. Мирьям со временем оказалась совершенной оторвой, такие женщины мне всегда нравились: умная и резкая. Зимой она подвержена меланхолии, особенно когда буря обещает снег. Надо сказать, прекрасен Иерусалим в снегу. В такие вечера, во время бурной непогоды, мы сидим с ней, натянув свитера и завернувшись в пледы, и грезим, что наутро проснемся в тихом свете выпавшего за ночь снега. Мирьям интересно, что происходит в моей сданной в аренду голове. Я рассказываю ей о некоторых случаях видений — об огненных колесницах и горящих горах звёзд. Она в ответ повествует о своих приключениях, например о том, как влюбилась в американца, зависшего в христианском хостеле. Она встретила его в Старом городе, куда ходит накануне Субботы за продуктами. В Старом городе часто можно встретить христианские компании молодых людей, в сущности хиппи, бродяг, которые поют под гитару псалмы, присаживаясь на мостовую возле каждой станции Страстей Христовых. Пока я был в Берлине, она сошлась с этим юношей, певшим о любви к Богу, он жил здесь, у нас, на тахте в салоне и не смел к ней прикоснуться. Когда Мирьям влюбляется, она сердится на себя и говорит с досадой: «Honestly, I am an oriental thing», — пожимает она, полька, плечами. Но мне кажется, Мирьям себя не вполне понимает. Мне видится в ней парадоксальное сочетание библейского упрямства и обречённости высшей доле. Мы с ней настолько непохожи, что порой её рассказы кажутся мне самой интересной болтовней на свете. Вот только иногда, когда Мирьям овладевают бурные чувства, я немного опасаюсь за неё. Так было в период её романа с одним парнем, который однажды влез к нам в квартиру по пожарной лестнице и просидел весь вечер в шкафу. Тогда я как раз был в отлучке по работе. Но Мирьям смелая от природы, так что ей не составило труда самостоятельно справиться с ревнивцем, спустив его с лестницы.
Вернувшись домой после недели съёмок, я обычно двое суток не вылезаю из постели, настолько устаю. Я сплю и днём и ночью, и Мирьям присматривает за мной — заглядывает в комнату и кормит кашей и вкусностями, которыми запасается в Старом городе, — хумусом, тхиной, питами, сладостями. Я ем понемногу и снова засыпаю от изнеможения. Зимой за окном свистит ветер, летом поют птицы, но всё это я слышу сквозь сон, разве что, очнувшись, могу попросить её принести геодезические приборы из машины, остерегаясь покражи. А могу и не просить, Мирьям сама справится — возьмёт нивелир, вешки, лазерную рулетку, в то время как во время первой ходки я затаскиваю домой штатив, тахеометр, GPS и ценный трубокабелеискатель.
С тех пор как я подписал ренту, более или менее регулярный заработок на съёмках ландшафта позволяет мне держаться на плаву, исправно платить за комнату на улице Исландия. Три года мы с Мирьям живём душа в душу. После развода снова замуж она не собирается, ей нравится быть свободной. А я... Что я? В какой-то момент вдруг решил, что я старик. Вот так внезапно взбрело в голову, что жизнь кончилась. Я и в самом деле стал скучным, потерял спокойствие и упорство, каковыми была окрашена моя молодость. Всё чаще я цитирую про себя Екклесиаста. Всё чаще не желаю вступать в новые отношения, знакомиться с новыми людьми. Мирьям посмеивается надо мной, когда я отнекиваюсь, не желая ехать в Тель-Авив на какую-нибудь вечеринку, говоря с долей серьёзности: «Я скучный человек, я хочу, чтобы меня оставили в покое». Иногда я уступаю уговорам, но обычно я непреклонен, и тогда Мирьям говорит: «Ладно, старик, мы двинули, не обессудь».
Среди приятелей Мирьям мне нравятся Айзек и Катька — щуплый программист, родившийся в Эфиопии, и круглолицая полноватая девушка из Ленинграда. Айзек и Катька то сходятся, то расходятся, но остаются друзьями. Айзек пытлив, любит спорить. Меня привлекает Катина язвительность, кроме того, я ценю возможность потрепаться с ней на родном языке. Иногда она потешается над серьёзностью Айзека, но относится с нежностью, приговаривая: «Once you go black, you never come back». Катька — выпивоха, так что с ней не соскучишься. Особенно она любит перцовку, которую сама же приготовляет по какой-то особенной рецептуре, унаследованной от бабушки. Называет она её, перцовку, «слезой Мурузи», поскольку родилась на Литейном проспекте в знаменитом доме Мурузи, где прадед её, интендант Будённого в Первой конной, после Гражданской войны получил комнату. «Так что бабушка с дедушкой вместе с родителями Бродского в одном сарае дрова пилили». Катя не любит, когда Петербург называют Питером: «Питерской, Миша, бывает только революционная матросня, а интеллигенция — она ленинградская или, на худой конец, петербургская». Катька с Айзеком славная пара, настолько они прекрасно разные и в то же время дополняющие друг друга. Айзек человек серьёзности, но если ему приходится спорить, тут хоть святых выноси. Он знает наизусть весь рэп начала века, в том числе репертуар 50 Сent, — и это наследие его юности особенно подвергается насмешкам Катьки, она иногда зовёт Айзека 55 Сents или Отелло: «Мой Оттеэ-лло».
Да, что-то рановато я начал мучиться скукой. Мне стали сниться странные безысходные сны — например, будто я в отряде астронавтов и мы живём на лунной станции, как вдруг метеоритная буря уничтожает корабль, на котором нам полагалось вернуться. Чувство космического одиночества иногда пронзает меня во сне, и я просыпаюсь со слезами тоскливой тревоги на щеках. Всё чаще хочется заснуть и сбежать от реальности, но дурные сны, вроде этого, о Луне, заставляют меня просыпаться.
Только в походах мне ничего не снится.
Я делаю съёмку и попутно ищу алфавитные знаки. Дело в том, что буквы есть повсюду. Вглядитесь в клинопись птичьих следов. В трещины на асфальте. В линии на ладони. В выщербинки на камнях. Если вы не найдёте их невооружённым взглядом, вы непременно их обнаружите под лупой или микроскопом. Всюду геометрия разбросала для нас алфавит. Мир полон знаков. Более того, он ими создан. Где-то их больше, где-то меньше. Например, в юности любая встреча могла быть знаменьем, потому что молодость — это время надежды. Нынче я ничего не жду, кроме знаков алфавита. Я брожу по Земле и беру там и здесь горсть грунта, чтобы поместить её в анализатор, залить в него немного воды для промывки и получить индекс концентрации в мельчайших крупинках почвы топологических констелляций, которые могут быть интерпретированы как знаки. Таким образом, моя геодезическая съёмка сопровождается обрисовкой алфавитной добычи, данные по которой я сдаю в Управление книги. Им это необходимо по двум причинам, благодаря одной из которых составляется карта национального достояния, а согласно другой, в будущем в тех или иных местах возможны раскопки (мне-то глубже шести сантиметров копать не полагается, согласно закону, утверждённому Министерством древностей).
Ситуация с алфавитными знаками в грунте Земли примерно та же, что и с золотыми знаками. Золото на планете можно найти повсюду, но не везде концентрация золотых знаков позволяет вести промышленную добычу, как, например, на Чукотке. Это не значит, что если найдётся место, где концентрация алфавитных знаков экстраординарно высока, то на этом месте возведут структуру для производства текстов. Управлению книги просто необходимо доказать, что Земля в целом — уникальное место на планете, где залежи алфавита обладают наивысшими значениями. Я ничего не имею против такой странной идеи. Земля вообще обустраивалась на идеях, не обладающих почвой под ногами. Так почему бы и сейчас не прибегнуть к разработке гипотез, подвешенных как бы в воздухе, ведь будущее время содержит в себе досточтимое королевство невероятных событий.
Я делаю съёмку, брожу по холмам и долинам, и прислушиваюсь, и присматриваюсь к тому, что даёт мне в обмен на вычислительные силы тот кристалл кремния, что впаян мне в башку. Это довольно интересно, потому что видения мои чётко, почти без зазора накладываются на действительность.
