Космическая романтика — это романтика новых рубежей, научного поиска, преодоления себя, гимн человеческому бескорыстию и альтруизму. Или нет? Повесть американского классика Роберта Хайнлайна «Человек, который продал Луну» — уникальный, едва ли не единственный в своем роде пример принципиально иного поворота темы. Бизнесмен Харриман, крупная акула капитализма, влюблен в космос пламенно, страстно и безнадежно. Точнее, в Луну: мечтает ступить на ее поверхность, собственными глазами взглянуть на древние кратеры, оставить след в тысячелетней пыли. Проблема в том, что он не политик, не военный и даже не генеральный конструктор группы реактивных установок, — а людям, которые в его мире принимают решения, эта самая Луна даром не нужна. Но Харриман не сдается — и пускает в ход единственный инструмент, которым владеет безупречно: деньги. Гениальный и чрезвычайно удачливый финансист, способный сделать состояние из воздуха, он посвящает себя одной цели — созданию космического флота, способного достичь естественного спутника Земли. Развязка символична: первая в мире ракета стартует на Луну, но главному герою не суждено взойти на ее борт — на то, чтобы проложить человеку дорогу в космос, бизнесмен-идеалист Харриман потратил все свои силы и всю свою жизнь без остатка.
Холодная война распространяется на Солнечную систему, космос подчиняет человека, а Луна побеждает Землю. 6 романов про освоение космоса

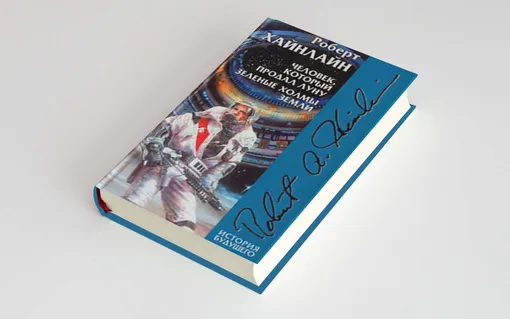
Роберт Хайнлайн, «Человек, который продал Луну» (The Man Who Sold the Moon, 1950)

Аркадий и Борис Стругацкие, «Стажеры» (1962)
«Главное — на Земле» — ключевая фраза из повести братьев Стругацких, которую охотно цитируют по поводу и без повода. Но основное действие «Стажеров» разворачивается вне Земли, за ее пределами — и это не случайно. Марсианская колония, космические станции Эйномия, Бамберга, Диона, которые посещает с генеральной инспекцией экипаж космолета «Тахмасиб», по сути, предлагают нам целую вереницу вариантов будущего. Суровое братство первопроходцев, которые деловито, без лишних сантиментов расчищают фронтир и под корень выводят марсианских пиявок, не задумываясь об отдаленных последствиях. Мягкий авторитаризм, построенный на психологической манипуляции и эмоциональном шантаже. Научная лаборатория, переполненная молодыми энтузиастами, излучающими энергию и готовыми ради результата на любой риск. В принципе, все это можно найти у Стругацких и на планете-метрополии, достаточно вспомнить повесть «Полдень, XXII век». Но в космосе каждое сообщество обособлено, каждая тенденция четко выделена и доведена до пика. Дороги в завтрашний день расходятся широким веером, какую из них выберет человечество, решать не Генеральному инспектору: он отвечает только за собственную судьбу. На Земле — настоящее. В космосе — будущее во всем его чрезмерном разнообразии и пугающей полноте.
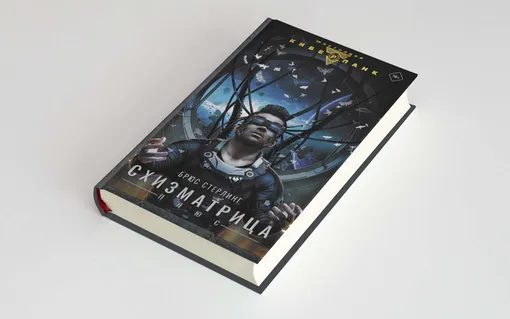
Брюс Стерлинг, «Схизматрица» (Schismatrix, 1985)
XX век стал для Европы эпохой тотальной аннигиляции больших нарративов. В романе «Схизматрица» Брюс Стерлинг, соавтор и ближайший единомышленник «киберпанка №1» Уильяма Гибсона (и большой поклонник советского агитпропа), возвращает в обитаемую Солнечную систему Идеи с заглавной буквы, те самые, ради которых можно терпеть лишения, убивать и умирать. Только теперь в основе идеологии лежит не экономическая или расовая теория, а взаимоисключающие технологические принципы. Шейперы полагают, что будущее за биотехнологиями, за усовершенствованием и изменением человеческой расы, созданием новых видов, более приспособленных к агрессивной окружающей среде. Механисты не сомневаются, что сращивание живого с механическим, замена уязвимого долговечным — самый прямой и быстрый путь к торжеству над косной природой. Подтвердить или опровергнуть их правоту можно только эмпирически, но аппетиты противоборствующих фракций велики, а ресурсы ограниченны: промышленный шпионаж превращается в высокое искусство, свободная конкуренция идеологий то и дело перерастает в короткие, но яростные стычки. Вместе с Большими Идеями в мир неотвратимо возвращается Холодна война — только теперь ареной для нее становится уже вся обитаемая Солнечная система.

Сергей Павлов, «Лунная радуга» (1989)
Человек колонизирует планеты и спутники, расширяет границы обитаемого пространства, приручает, делает его комфортным и благоустроенным. Ближнее Приземелье, Дальнее Приземелье — шаг за шагом, год за годом, с упорством и сноровкой, изобретательностью и трудолюбием. И не замечает, что сам мало-помалу меняется с каждой отвоеванной у пространства пядью. Приземелье огрызается, запускает щупальца в саму человеческую природу. Все больше космонавтов, вернувшихся на Землю с далеких рубежей, ощущают на себе этот незримый отпечаток. Кто-то пытается спрятаться, уединиться, разорвать все социальные связи. Кто-то тихо чахнет от пережитого шока. Кто-то, вопреки всем гуманистическим установкам, впадает в ярость, норовит выплеснуть агрессию вовне. Сергей Павлов вполне реалистично описывает варианты реакции на психологическую травму — хотя само это словосочетание в его романе-дилогии не звучит ни разу. Для того чтобы замедлить инфильтрацию, на Земле существуют специальные службы, сформированные из хорошо обученных специалистов. Но и эти высокие профессионалы, готовые к любым неожиданностям, уязвимы, подвержены влиянию Приземелья. Может быть, даже в большей степени, чем те, за кем наблюдают, — служебный долг забрасывает их в самые опасные, самые непредсказуемые уголки Солнечной системы. Замкнутый круг: чем больше людей обживает космос, перестраивает его под человеческие нужды, тем больше среди них тех, кто ощущает себя уже не вполне человеком — а порой и не человеком вовсе.

Сергей Жарковский, «Я, хобо: времена смерти» (2006)
Тяжелая работа в открытом космосе меняет человека. Многолетний напряженный труд в отрыве от человечества, в мегапарсеках от материнской планеты, бесповоротно меняет культуру. Это, в общем, очевидно — однако писатели-фантасты нечасто задумываются, как именно, и еще реже рискуют показать результаты своих размышлений читателям. Роман «Я, хобо» — счастливое исключение из правила. Герои Сергея Жарковского тянут бесконечную Трассу, уводящую в Глубокий Космос, все дальше от Земли. Прародина человечества давно превратилась для них в сказочный Эдем, в нечто туманное, труднопредставимое, не имеющее четких очертаний. Повседневный мир космачей совсем другой, и смерть здесь всегда ходит рядом. В условиях жесточайшей экономии всего — воздуха, питьевой воды, времени, смыслов — в обороте остается только самое важное, самое ценное, то, без чего действительно не выжить. Меняется сам язык: секунда, потраченная на лишнее слово, лишний слог, может обернуться фатальной катастрофой, нераспознанная цитата в радиосообщении — убить вернее, чем ледяной метеорит. На этом языке говорит Марк Байно, герой, от имени которого ведется повествование, — и чтобы понять, чем живет Трасса, ради чего ее строители без раздумий готовы пожертвовать собой, читателям тоже придется освоить этот новый язык.

Йен Макдональд, «Новая Луна» (Luna. New Moon, 2015)
Трилогию Йена Макдональда Luna («Новая Луна», «Волчья Луна», «Восставшая Луна») правильнее было бы назвать романом в трех книгах: это одна законченная история со сложным, запутанным, разветвленным, но все-таки сквозным сюжетом. Космос здесь — бездонная пропасть, океан, который разделяет метрополию, погрязшую в своих проблемах, и человеческую колонию на естественном спутнике Земли. На Луне поднимают головы Пять Драконов, пять семейных корпораций, крепнет принципиально новая экономика, кипят локальные битвы за власть, за ресурсы, за видение будущего. Земля, медленная, неповоротливая, инертная, неуклонно теряет контроль, а отчаянные попытки удержать колонию любыми средствами вплоть до геноцида только приближают конец — так происходило с империями сто, пятьсот, тысячу лет назад. До тех пор пока миры разделяет непреодолимая космическая пропасть, глобальная экономика, единая этическая парадигма, братство всех людей останется иллюзией, мороком, сложнонаведенной галлюцинацией. Немногие из тех, кто отправился на Луну, рискнут вернуться на дно гравитационного колодца — и не все смогут, даже если захотят. Может, и к лучшему — по крайней мере, симпатии автора целиком и полностью на стороне колонистов. Что, мягко говоря, не удивительно для британского писателя ирландского происхождения.
