Когда мы говорим о смерти — мы говорим о жизни. В большей степени о политике, социальном устройстве, справедливости и так далее. На мой взгляд, интерес образованной публики в России к теме смерти связан с тем, что смерть очень хорошо оттеняет разговоры о человеке, о субъекте, о политике. Ведь когда мы говорим об эвтаназии — мы говорим о политике; когда мы говорим о горевании — мы говорим о политике; когда мы говорим о бессмертии — мы тоже говорим о политике. Мы говорим о человеке — имеет человек право на добровольный уход из жизни или не имеет, добрая или злая природа у человека, нужен ему контроль или не нужен. Речь именно об этом, а не о каких-то прикладных вещах.
Антрополог и исследователь смерти Сергей Мохов о том, как в российском обществе заговорили о смерти, и о том, каково это — профессионально ее изучать
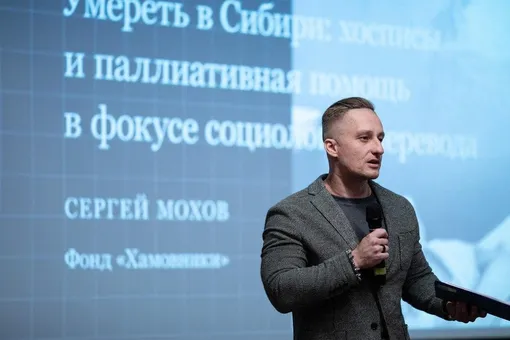
О чем мы на самом деле говорим, когда говорим о смерти
О разрушении монополии на разговор о смерти
Русскоязычный человек часто стоит в немного колониальной позиции, он вынужден с открытым ртом смотреть, а что там якобы на каком-то умудренном Западе говорят. Можно признаться, что в случае разговора о смерти это действительно в какой-то степени так. Мы находимся в немного такой не то чтобы догоняющей позиции, но более переходной. Старый язык разговора о смерти — монопольный — уже отошел, а нового языка нет. Раньше говорила церковь, потом о смерти пыталась говорить партия — у нее это очень плохо получалось, сейчас о смерти может говорить самое огромное количество людей. Это здорово, значит, они конкурируют, и в этой конкуренции рождается какое-то осмысление этого недосягаемого для нас опыта. Разговор о смерти — хорошая отправная точка для общественной дискуссии.
О том, как хосписное движение связано с политикой
Во всем мире хосписное движение зарождалось и развивалось как часть new social movement — низовых социальных движений. Этот процесс связан с ростом тем феминизма, благотворительности, социального государства, борьбы за права человека, гуманизма и так далее. Каждый человек имеет право не быть униженным болью, не быть униженным отсутствием гигиенических возможностей, отсутствием выбора питания. Смерть не должна быть унизительной.
В России эта идея была завезена с распадом СССР — Виктором Зорзой и некоторыми другими активистами. И что любопытно — бум в движении, колоссальный приток активистов произошел после провала протестов 2011 года. Про это пишут очень много социологов — про уход активистов в благотворительность, в низовые проекты, переходят к так называемой практике малых дел, или практике реальных дел. Условно говоря, Путина можно победить, когда идешь красить лавочки во дворе. Отсюда вырастает активизм последних десятилетий, начиная от Шиеса, свалок, вырубки парков и так далее. И вот какая-то часть активистов ушла не в урбанизм, троллейбусы, лавочки и велосипедные дорожки, она ушла в паллиативное хосписное движение, так как хосписное движение очень хорошо совпадает с тем, чтобы заниматься политикой под видом социального действия, социальных услуг.
Вроде вы занимаетесь паллиативной помощью, а на самом деле вы все время актуализируете проблему достоинства, проблему прав человека, необходимость милосердия — очень политических установок. Это появилось потому, что трансформировалась европейская и американская политика. До России это постепенно докатывается, неудивительно, что хосписные активисты — это активисты, имеющие, на самом деле, очень четкую политическую позицию.
В конце года про это у меня выйдет англоязычная статья в британском журнале Mortality, посвященном смерти и умиранию, где я рассказываю непосредственно о хосписном движении в России.
О своей второй книге «История смерти. Как мы боремся и принимаем»
По большому счету это семь эссе, объединенных общей идеей. Это были мои лекции, занятия, которые мы проводили на площадке InLiberty. У курса изначально была идея познакомить самых разных людей с тем, как вообще говорят о смерти в мире — максимально просто, но при этом со всякими интересными историями. Потом в какой-то прекрасный момент Феликс Сандалов (главный редактор издательства Individuum. — Правила жизни) предложил, чтобы эти занятия вылились в формат какого-то текста.
Я боялся, с одной стороны, нападок коллег, которые будут обвинять меня в упрощении, а с другой стороны — что где-то еще может остаться академизм, который будет непонятен читателю. Но читатель для меня здесь важнее. Некоторые из моих друзей, которые совершенно не знакомы с death studies, читали отдельные главы и выдержки. Оказалось, что это было им полезно, интересно, они отзывались с каким-то уважением к написанному. Так что эту книгу можно назвать таким «Введением в death studies», или «Очень краткой историей смерти» — все же текст небольшой, охват темы тоже.
Еще один момент — очень многие дискурсы еще не введены в русскоязычный оборот, поэтому многие вещи, естественные для западной академии, приходится проговаривать. Там достаточно поставить ссылочку на общеизвестную работу — и все говорят: да-да, мы понимаем, о чем это. Здесь, с одной стороны, вещи, которые нужно проговорить, кажутся примитивными, с другой стороны, они структурно важны, потому что они вводят в тему многих читателей, дают возможность уже самостоятельно работать в будущем с текстами, со ссылками, с кейсами, с поставленными вопросами. На многие вопросы я не даю ответа, я предоставляю возможность подумать читателю.
О своем читателе
На самом деле я представляю себе читателя очень четко. Для меня это молодежь в возрасте от 17 до 40 лет с базовым, хорошим образованием, не обязательно даже гуманитарным — просто проходившие с радостью и интересом университетские курсы по философии и социологии, даже если учились на естественных науках. Главное, что они имеют навык чтения. Любой человек, читающий нон-фикшен, — это человек, который имеет так называемый культурный навык восприятия подобных текстов: он готов к некоторому погружению в тему, но не академическому, требующему серьезной подготовки научного уровня и ссылочного аппарата.
Другое дело — насколько он готов именно начать говорить о смерти. Я не думаю, что он подходит уже с какой-то сформированной позицией. Для него это такой непочатый край, языка прежде всего. Я делаю акцент на языке потому, что все, что у нас есть из нашего познавательного инструмента, — это язык. Мир таков, поскольку мы можем его превратить в набор концепций, помыслить, то есть выразить в словах. Нам, конечно, очень далеко до сформированного языка, иначе я бы писал как-то иначе.
О том, как формируется позиция о смерти
На многие вопросы вокруг смерти у меня нет четко устоявшегося ответа. Это связано не с зыбкостью позиции или со слабостью, а с тем, что, на мой взгляд, постановка вопроса во многих случаях гораздо важнее какого-то очень ясного, кристально чистого ответа. От того, как каждый человек готов на них отвечать, а может быть, уже ответил интуитивно, он сможет собрать кубик Рубика своего представления о смерти. Например, я веду в книге какую-то историю — допустим, как развивалось понимание горя. Преобладает сначала телесно-ориентированная концепция, с ней работают психологи и психотерапевты, все понятно и доступно — даже у мышей биохимические показатели колебались, когда у мамы-мыши умирал мышонок. Но раз — и мы встречаем противоречащую информацию со стороны культурных антропологов, которые показывают, что переживание горя на самом деле может быть культурно опосредованной штукой. Так ты делаешь виток в рассуждениях и начинаешь перезадавать себе вопросы, которые не имеют четкого ответа и как раз призваны посеять смятение, вызвать читателя на диалог с самим собой, на диалог с ближним окружением или с людьми, которые готовы на эту тему разговаривать.
О том, как изучение смерти повлияло на собственную жизнь
Размышление о смерти меня многому научило. С этой темой 24 часа в сутки я живу больше 7 лет. Главное, что мне удалось, — я стал более гедонистически относиться к собственной жизни, к собственному времяпрепровождению. Я прекрасно осознаю, что смерть может быть, как бы это сказать, — обидна. Работая в хосписе и общаясь с людьми, которые близки к тому, чтобы умереть, я понял, что мне бы очень хотелось не сожалеть. Если бы мне сейчас сказали: Сережа, все, хорош, пора и честь знать, землей обтираться, мне бы хотелось, чтобы я как можно меньше жалел о каких-либо ошибках — о том, что не сделал и слушал не тех. Поэтому я стараюсь жить так, чтобы больше проводить времени с близкими, со своей любимой дочерью. Делать больше того, что хочется. Это не значит, что я падаю в мир порочного гедонизма — наркомании, похоти, разврата и полного морального упадка, нет. Я стал больше путешествовать, пробовать и делать — просто потому, что у меня есть какой-то интерес, потому, что мне так хочется.
Например, два года назад я купил себе мотоцикл, который не мог приобрести с подросткового возраста по куче всяких причин, занялся мотопутешествиями. Проехал уже более тридцати тысяч километров суммарно за этот и прошлый сезон, катаясь по Русскому Северу, по Архангельской, Вологодской области, Карелии, Башкирии, Татарстану. Я учусь играть на музыкальном инструменте, активно занимаюсь различными видами спорта — например, тяжелой атлетикой занимаюсь. Я всегда хотел научиться тяжелоатлетическим движениям — помните, как поет Владимир Высоцкий: «С коротким злым названием "рывок" (композиция "Песня о штангисте". — Правила жизни). И вот я выступил в феврале на первых соревнованиях, хотя мне уже тридцать лет и для тяжелой атлетики это поздновато. Много путешествую, покупаю и ношу одежду, которую мне хочется, хотя по статусу она может не совпадать: например, я кандидат наук и должен ходить в костюме-рубашке-пиджаке, а я позволяю себе ходить на лекцию в футболке Iron Maiden. Делаю татуировки потому, что мне просто этого хочется и мне доставляет это некоторое удовольствие. Я чувствую себя совершенно свободным человеком. Смерть научила меня ценить свой свободный выбор.

О сценарии собственной смерти
Я боюсь смерти и дряхлости, боюсь деменции и Альцгеймера, которые с большой вероятностью будут ждать меня, если я доживу до преклонного возраста. Впрочем, как и вас и большинство окружающих нас людей. Хотелось бы быть максимально ментально сохранным, понимать, что происходит со мной.
Я думаю, что это должна быть какая-нибудь смерть в не очень дряхлом возрасте, желательно не от какой-то долгой болезни. Но при этом, чтобы это не был какой-то оторвавшийся тромб — чтобы не совсем уж неожиданно. Хочется иметь какой-то короткий небольшой промежуток для подведения итогов, завершения дел, а потом какая-то такая смерть во сне, было бы чудесно.
Что сделают с телом — это меня меньше всего волнует. Не очень хочется хорониться гробом в землю, это вообще такая не эстетичная процедура, в России — особенно. Если я помру зимой — это вообще ужасно, всех заставят идти на кладбище, там будет холодно, будет идти мерзкий снег, и не получится никакого трогательного прощания друг с другом. Поэтому, наверное, все-таки крематорий — теплым сентябрьским хорошим днем, чтобы было не холодно.
О реакции людей, которые узнают, что Мохов изучает смерть
С незнакомыми людьми об этом я говорить совершенно не люблю. У меня переизбыток разговоров на эти темы. Зачастую какое-то новое знакомство приводит к повторению одних и тех же вопросов, на которые я давал миллион раз ответ, словно проповедник. Общение с людьми, у которых непосредственный опыт есть интересный, я всегда приветствую. Но часто люди думают, что меня интересует вообще все связанное со смертью. Начинают делиться со мной какими-то вещами, которые могут меня интересовать в самую последнюю очередь. Например, новостями, как в Омске проходит чемпионат по выкапыванию могил или что у лего вышел новый набор гробовщиков.
Это как с любым экспертом, встречаете какого-то человека: «Чем вы занимаетесь? Я объезжаю лошадей». — «О, а я в пять лет катался на лошади!» Или: «Я смертью занимаюсь». — «О, а у меня умер дедушка четыре года назад»! Не очень полезный обмен информацией — конечно, я устаю, и это нормально. Но я понимаю, что людям хочется узнать об этом побольше, поэтому я стараюсь быть вежливым.
О профессиональной деформации
Я общался с психологом — он спросил, бывают ли моменты, когда я отдыхаю, не думаю о работе, о смерти. Я говорю: нет, блин, я смотрю фильмы, читаю книги и стараюсь их выбирать так, чтобы они были по теме, где есть что-то связанное с опытом умирания, смерти, который я смогу потом использовать. У меня проект по советской онкологии, я покупаю книжки у старьевщиков, связанные с раком в советские годы. Приходит жена: «Привет, любимый, что делаешь? О, понятно, читаешь советскую книжку про рак». Наверное, надо с этим что-то делать.
О планах на будущее
Занимаюсь тем, что происходило с больными, умирающими людьми в советские годы — в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые. В том числе альтернативными способами лечения рака. Есть идея написать через три года хорошую книжку, правда, попытаться на английском языке это сделать — полноценную академическую монографию. Сейчас у меня есть потрясающие кейсы, но я пока не готов ими делиться — они уникальны, никто о них ничего не писал. Для исследователя очень важно быть первооткрывателем каких-то источников. Осенью, в начале зимы выйдет статья в российском социологическом журнале «Лабораториум», где будут мои первые попытки обобщения приведены.
