Было совершенно ясно, что это их последняя ссора. Но хотя он ждал чего-то подобного уже несколько дней, а то и недель, сдержать гнев и возмущение все-таки не удалось. Она была не права, но отказывалась признать свою неправоту. Всякий его довод, всякая попытка примириться и воззвать к благоразумию выворачивались наизнанку и обращались против него. Как она смела попрекать его за тот невинный вечер в «Полумесяце», что он провел с Дженнифер? Как она смела назвать его подарок «жалким», да еще уверять, будто у него «бегали глаза», когда он его вручал? И как она смела заговорить о его матери — не о ком-нибудь, а о матери, — как смела она обвинить его, что он слишком часто навещает мать? Словно сомневалась в его зрелости, в его силе, даже в его мужественности...
Чтение выходного дня: фрагмент романа Джонатана Коу «Дом сна»
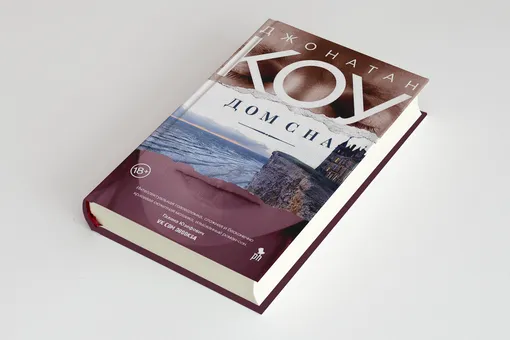
Он невидяще смотрел перед собой, не замечая ни окружающих предметов, ни пешеходов. Сука, подумал он, вспомнив ее слова. И сквозь стиснутые зубы выдохнул:
— СУКА!
И почувствовал себя немного лучше.
***
Эшдаун, огромный, серый, внушительный, высился на мысу в каких-то двадцати ярдах от отвесной скалы; он стоял здесь уже больше ста лет. Целыми днями вокруг его шпилей и башенок с хриплым причитанием кружили чайки. Целыми днями и ночами о каменную преграду неистово бились волны, порождая в студеных комнатах и гулких коридорах старого дома непрерывный рев, словно где-то рядом неслись тяжелые грузовики. Даже самые необитаемые уголки Эшдауна — а необитаемы ныне большинство из них — никогда не ведали тишины. Наиболее приспособленные для жизни помещения скучились на втором и третьем этажах, окна выходили на море, и днем комнаты заливал холодный свет. В Г-образной кухне на первом этаже было три маленьких окошка и низкий потолок, отчего там всегда царил полумрак. Суровая красота Эшдауна, противостоявшая стихии, попросту маскировала то, что дом, в сущности, был непригоден для жизни. Соседские старики могли припомнить — не слишком веря своим воспоминаниям, — что некогда особняк принадлежал семье из восьми-девяти человек. Но пару десятилетий назад дом перешел к новому университету, и сейчас в Эшдауне обитало около двух дюжин студентов — население столь же переменчивое, как и океан, что начинался у подножия скалы и тянулся до самого горизонта, в болезненном беспокойстве вздымая тошнотворно зеленые волны.
***
Спрашивали эти четверо разрешения присесть за ее столик или нет? Сара не помнила. Вроде бы они спорили, но Сара не слышала, о чем идет речь, хотя голоса и пробивались до ее сознания — то нарастая, то затихая сердитым контрапунктом. В эти минуты реальным было для нее лишь то, что она видела и слышала у себя в голове. Одно-единственное ядовитое слово. И глаза, полыхнувшие необъяснимой ненавистью. И ощущение, что слово не столько произнесли, сколько им в нее харкнули. Та встреча... сколько же она длилась — две секунды? меньше? — но в памяти Сара прокручивала ее уже больше получаса. Эти глаза, это слово... от них теперь очень долго не избавиться. Даже сейчас, когда люди вокруг говорили все громче и оживленнее, Сара чувствовала, как ее захлестывает очередная волна паники. Она прикрыла глаза от внезапной полуобморочной слабости.
Напал бы он на нее, думала она, не будь Хай-стрит такой оживленной? Затащил бы в подворотню? Разорвал бы на ней одежду?
Она подняла кружку с кофе, медленно подняла к лицу, заглянула внутрь. Маслянистая поверхность мелко подрагивала. Она покрепче стиснула кружку. Жидкость перестала колыхаться. Руки у нее больше не дрожали. Все позади.
Еще одна возможность — что, если ей все это приснилось?
— Пинтер!
Это слово первым проникло в ее сознание. Сара сосредоточилась и подняла глаза.
Имя произнесли с усталым сомнением — говорила женщина, в одной руке она держала стакан с яблочным соком, в другой — зажженную сигарету. У нее были короткие угольного цвета волосы, чуть выступающая челюсть и живые темные глаза. Сара смутно припомнила, что видела ее и прежде — здесь же, в кафе «Валладон», — но имени не знала. Чуть позже стало ясно, что женщину зовут Вероника.
— Как это типично, — добавила женщина и затянулась сигаретой, прикрыв глаза. Она улыбалась: похоже, спор забавлял ее — в отличие от худого бледного студента, с серьезным видом сидевшего напротив. — Люди, которые вообще ни черта не смыслят в театре, — продолжала Вероника, — всегда талдычат о величии Пинтера.
— Ладно, — сказал студент. — Согласен, он переоценен. С этим я согласен. Но это лишь подтверждает мою точку зрения.
— Подтверждает твою точку зрения?
— Послевоенная театральная традиция Британии, — сказал студент, — настолько... этиолирована, что...
— Чего? — произнес голос с австралийским акцентом. — Это еще что такое?
— Этиолирована, — повторил студент. — Столь этиолирована, что в британском театре имеется лишь одна фигура, которая...
— Этиолирована? — упорствовал австралиец.
— Не обращай внимания, — сказала Вероника, еще больше расплываясь в улыбке. — Он пытается произвести впечатление.
— Но что значит это слово?
— Посмотри в словаре, — отрезал студент. — Моя точка зрения заключается в том, что в послевоенном британском театре есть лишь одна фигура, которая может претендовать на какую-нибудь значимость, но даже ее переоценили. Чрезмерно переоценили. Ergo, театру конец.
— Эрго? — переспросил австралиец.
— С театром покончено. Он больше не может ничего предложить. Театру нет места в современной культуре — ни в этой стране, ни в любой другой.
— И ты хочешь сказать, что я даром трачу время? — спросила Вероника. — Что я совершенно не улавливаю Zeitgeist?*
— Именно. Тебе нужно срочно сменить специализацию и заняться изучением кинематографа.
— Как ты.
— Как я.
— Что ж, интересно, — сказала Вероника. — И что же ты хочешь сказать? С одной стороны, ты полагаешь, что раз я интересуюсь театром, значит, я его изучаю. Ошибаешься: я учусь на экономическом. И потом, это твое убеждение, будто ты обладаешь некоей абсолютной истиной... в общем, я нахожу, что это весьма мужское качество. Мне больше нечего добавить.
— Так я мужчина, — заметил студент.
— А Пинтер — твой любимый драматург, и это весьма показательно.
— Чем же?
— Он пишет пьесы для мальчиков. Для умных мальчиков.
— Но искусство универсально. Все истинные писатели — гермафродиты.
— Ха! — презрительно выдохнула Вероника и затушила сигарету. — Ладно, поговорим о гендерных вопросах?
— Я думал, мы говорим о культуре.
— Одно неотделимо от другого. Гендерные различия всюду.
Теперь рассмеялся студент:
— Это одно из самых бессмысленных утверждений, которое я слышал. Ты хочешь говорить о гендерных различиях только потому, что боишься говорить о высоком.
— Пинтер интересен только мужчинам, — сказала Вероника. — А почему он интересен мужчинам? Потому что он женоненавистник. Его пьесы взывают к женоненавистничеству, запрятанному в глубине души всякого мужчины.
— Я не женоненавистник.
— Ага. Все мужчины ненавидят женщин.
— Да ты сама в это не веришь.
— Еще как верю.
— И считаешь всех мужчин потенциальными насильниками?
— Да.
— Ну вот, еще одна бессмыслица.
— Смысл весьма прозрачный. У всех мужчин есть задатки насильника.
— У всех мужчин есть орудие насилия. Это не одно и то же.
— Речь не о том, что все мужчины обладают необходимым... инструментарием. Я говорю, что нет такого мужчины, который не лелеял бы в самом мрачном уголке своей души глубокую обиду — и зависть — к нашей силе, и обида эта иногда перерастает в ненависть, а потому способна обернуться насилием.
Последовала короткая пауза. Студент что-то промямлил и тут же затих. Потом снова заговорил и снова умолк. В конце концов не придумал ничего лучшего, чем:
— Да, но у тебя нет доказательств.
— Вокруг полно доказательств.
— Да, но у тебя нет объективных доказательств.
— Объективность, — сказала Вероника, закуривая снова, — это мужская субъективность. Долгую и отчасти даже благоговейную тишину, наступившую после этого вердикта, нарушила Сара:
— Мне кажется, она права.
Сидевшие за столом разом повернулись к ней.
— Не по поводу объективности... в общем... я никогда об этом не задумывалась... но я хочу сказать, что мужчины по сути своей — действительно враждебные существа, и никогда не знаешь, когда эта враждебность... выплеснется наружу.
Вероника встретилась с ней взглядом.
— Спасибо. — Она повернулась к студенту: — Видишь? Поддержка по всем фронтам.
Тот пожал плечами:
— Обычная женская солидарность.
— Нет, понимаете, со мной как раз так и случилось, — запинаясь и торопясь, пробормотала Сара. — Как раз такой случай, о котором вы говорите... — Она опустила голову и увидела, как ее глаза угрюмо отражаются в маслянистой поверхности кофе. — Прошу прощения, я не знаю, как вас зовут... Даже не знаю, зачем вмешалась в вашу беседу. Я лучше пойду.
Она встала и поняла, что зажата в самом углу — край стола врезался ей в бедра, она неловко, бочком, протиснулась мимо австралийца и серьезного студента. Лицо ее горело. Сара не сомневалась, что они смотрят на нее как на чокнутую. Пока она шла к кассе, никто не произнес ни слова, но, отсчитывая мелочь (Слаттери, хозяин заведения, с отстраненностью запойного книгочея сидел в своем углу), Сара почувствовала, как чья-то рука коснулась ее плеча; она обернулась и увидела Веронику. Та улыбалась смущенно и чуть просительно — резкий контраст с тем воинственным оскалом, которым она одаривала своих оппонентов за столиком.
— Послушай, — сказала Вероника, — я не знаю, кто ты и что с тобой стряслось, но... мы можем поговорить об этом, когда захочешь.
— Спасибо, — ответила Сара.
— Какой курс?
— Четвертый.
— А, так тебе год только остался?
Сара кивнула.
— Живешь в студгородке?
— Нет. В Эшдауне.
— Вот как. Может быть, тогда так или иначе встретимся.
— Наверное...
