Я была типичным советским ребенком из интеллигентной, но не диссидентской семьи — я читала взахлеб и много, но по довольно стандартному списку. При этом я страшно благодарна моим родителям и бабушке с дедушкой за то, что они очень рано начали давать мне «взрослые» книги — от Джерома до Мопассана. Я плохо представляю себе, какой бы я была без этого. Что же до детской литературы, я поочередно влюблялась то в одну книжку, то в другую, но есть две, которые нельзя не назвать: одну из них любили и любят очень многие, а вторая, кажется, к сожалению, была не очень распространена. Первая — это «Дорога уходит вдаль» Александры Бруштейн, вся трилогия. Она, конечно, имела для меня огромное значение: сейчас я понимаю, что это был не просто захватывающий «роман взросления», от которого взрослеющему ребенку не оторваться, но и первая книга, которая открыто говорила со мной и о еврейской идентичности, и об истории страны, и при этом — что впоследствии станет для меня предельно важным — была крайне внимательна к повседневности. Я не перечитывала Бруштейн очень давно, но люблю до сих пор.
Линор Горалик — о «Лолите» как книге про любовь, русской классике и поэтах, навсегда изменивших ее жизнь

О детском чтении

А вторая книга, которая сразу приходит на ум, — вернее, серия из трех маленьких книжек — называлась «Голубая бусинка». Про девочку с голубой бусинкой на ниточке, и бусинка эта умела исполнять желания. Но, как положено волшебному предмету, ресурсы бусинки были не бесконечны и тратить их надо было с умом. У меня был повод внезапно и недавно о ней вспомнить, читая отличную статью на «Горьком» про экономику волшебства в волшебной сказке; «Голубая бусинка» заставила меня на всю жизнь запомнить важный принцип: никакой внешний ресурс, даже магический и всемогущий, не избавляет тебя ни от личной ответственности, ни от необходимости принятия решений, ни от этических дилемм.
А еще в этой книжке был пес Тобик, и оттуда у меня был воображаемый пес Тобик, с которым я провела все свое детство.

Стихи про меня
В детстве у меня был банальный, общеинтеллигентский круг чтения. Не припомню, чтобы там было что-то радикальное, свое и общественно неприемлемое. Разве что странноватым было, что меня до дрожи интересовали стихи, а больше они в моем окружении не интересовали примерно никого (хотя окружение это было очень читающим). Я помню, например, как в десять лет я в библиотеке пионерского лагеря надыбала журнал, в котором были стихи Вертинского. Меня это совершенно потрясло, я их себе переписывала, и они создали у меня какое-то ощущение туннеля в невероятное; до этого мое столкновение с поэзией ограничивалось поэзией советской и разрешенной, даже до Серебряного века и Блока я еще не добралась (до него оставалось буквально несколько дней в той же библиотеке — и после этого моя жизнь реально изменится навсегда), до Вознесенского и настоящего, не школьного, Рождественского мне оставался год, и в рамках моего читательского опыта Вертинский был откровением свыше: неужели такое бывает? Неужели можно говорить настолько иначе?
И еще, к сожалению, мне было совсем не с кем говорить о стихах, и я приучилась говорить о них сама с собой; только позже, в 14, после переезда в Израиль, у меня появился первый «поэтический» собеседник, мальчик Женя. И он немедленно дал мне Бродского. Это тоже было откровение и удар под дых, и мир никогда не был прежним после этого: все, что я знала о поэзии, оказалось даже не одной двадцатой того, чем поэзия могла быть на самом деле. А ведь при этом до моего реального и сколько-то основательного знакомства и с русской неподцензурной поэзией XX века, и с русской современной поэзией оставалось десять лет. Я думаю, то, что происходило со мной, когда я открывала для себя очередной поэтический голос — будь то лирика Маяковского, «Реквием» Ахматовой, Крученых, Бродский, Вознесенский, Айзенберг или Айги, — было осознанием новых степеней поэтической свободы, со временем сложившееся в ощущение свободы уже абсолютной: поэзия может все, поэзии можно все. Я до сих пор испытываю восхищение, когда тексты того или иного автора вызывают именно это ощущение: «Неужели и так можно?» — «Да, можно», — но чтобы эта свобода оставалась поэзией, нужно такое сочетание большого дара и большой работы, которым остается только восхищаться.
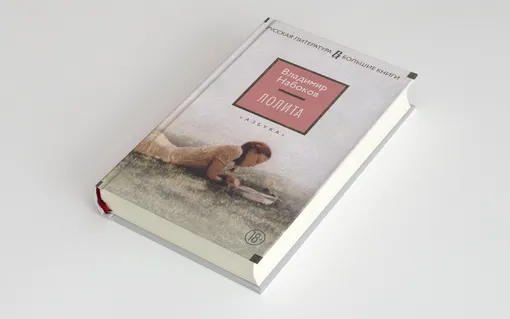
Об отношениях с Набоковым
Я совершенно не могу вспомнить, как именно и при каких обстоятельствах мне попала в руки «Лолита»: мне было лет 16, в этот период читаешь взахлеб все, до чего можешь дотянуться. У меня была совершенно прекрасная компания, много читающих друзей, мы одалживали друг другу книги из наших переехавших с нами из страны в страну библиотек. И я помню, что «Лолита» была для меня книгой, благодаря которой я поняла, как для меня устроен некоторый определенный род любви, уже к тому моменту случавшийся со мной. Не к маленьким девочкам, слава богу, и не подразумевавшей насилия над другим ни в каком смысле. И это было болезненное, стыдное и важное понимание. Еще один набоковский роман, «Защита Лужина», станет для меня вторым ключом к истории про эту все отдающую и всего требующую взамен искаженную любовь. Для меня до сих пор «Лолита», при всей ее сложности и двойственности, великий и страшный роман о неразделенной обсессивной любви, муке и бессилии, которые были мне так знакомы. Я перечитываю «Лолиту» часто и знаю, кажется, кусками наизусть. Есть такое чувство, как «страх перечитывания», очень многим наверняка известное, когда ты боишься браться за книгу, которая была тебе дорога, потому что боишься, что она тебя разочарует. Так вот, у меня никогда не было с Набоковым ничего подобного: чем больше и дальше я его читаю, тем больше я его люблю.

О повседневности и времени
Еще одна моя юношеская любовь — «Вечер у Клэр» и «Ночные дороги» Гайто Газданова. Я перечитываю их довольно часто и никогда не могу избавиться от невероятной магии того, как Газданов наполняет смыслом ежесекундное. У Газданова время не обесценивается вообще. Все важно: каждый шаг, каждое мгновение, каждый случайный жест. Его тексты показывают мне, что жизнь состоит не из великих поворотов и решающих событий, а из секунд и минут; нет никакого права предполагать, что можно вольно обращаться с секундами и минутами в надежде, что когда будет нечто грандиозное, тогда и будем вести себя хорошо, а пока можно и кое-как. Плотность времени у Газданова тем и страшна, что очень часто оно лишено грандиозности, но ни в какой момент не лишено значимости. Жить в таком времени трудно — а ни в каком другом лично мне, видимо, нельзя.
Я понимаю, что такая моя реакция связана, скорее всего, с присущим мне страхом перед ходом времени как таковым. Я с детства одержима мыслью, что время утекает сквозь пальцы и каждая секунда важна, а все, что в ней есть, немедленно исчезает. С этим связан и еще один мой страх: что все крошечные вещи, которые говорятся и делаются, исчезают немедленно: люди забывают свои шутки, забывают истории, которые с нами происходят, вытесняют детские воспоминания. Все бесценно, все это и есть живая ткань жизни, и все это для меня почему-то важнее и значимее «грандиозных» событий. Я стала записывать шутки, истории и баечки за своими друзьями 30 лет назад и до сих пор это делаю. И проект PostPostMedia так появился — он про попытку сохранить воспоминания, удержать то, что кажется никому не нужным, но оно нужно, ей-богу, нужно. И если этими историями не просто делятся, а еще и читают их — значит, они нужны не только мне. А мне они нужны прямо очень.
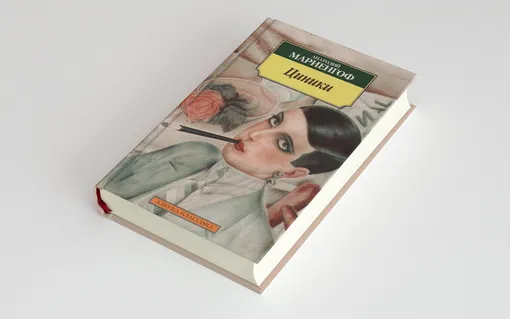
Книги про меня
Если говорить про книги, немедленно вызывающие у меня сильные эмоции, находящиеся в пространстве между дискомфортом и восхищением, можно назвать «Воспоминания» Тэффи и «Циников» Мариенгофа. Тэффи для меня — не просто мемуарная проза: у нее есть удивительная способность любить даже нелюбимых, видеть живых людей даже в тех, кто ей социально совершенно не близок, и не обесценивать их. А «Циники» — история, в которой рушащийся на глазах внешний мир наполняется смыслом, пусть и страшным и жестоким, через душераздирающую драму про невыносимые любовь и ревность, про страх потери, про обстоятельства, разрушающие жизнь. Обе эти книги — просто совершенно несравнимый с моим экзистенциальный опыт (и слава богу), но и Тэффи, и Мариенгоф проговаривают вещи так, что лично мне в принципе не удается дистанцироваться от текста; это невыносимо — и бесценно.
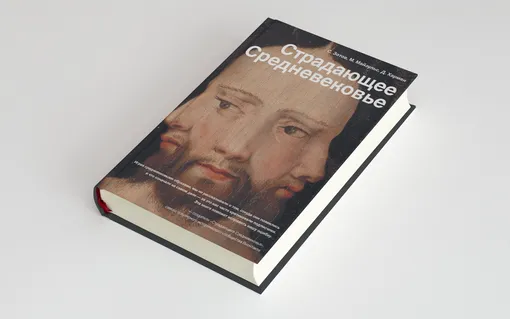
О нонфикшене
У меня есть необходимость много читать по работе — то есть про теорию моды и про маркетинг. Поэтому чтение для удовольствия — это такая немножко украденная радость, и оттого я ценю ее еще больше. Я, к огромному моему сожалению, уже много лет почти не могу читать фикшен (за редчайшими исключениями; никакого принципиального объяснения, не дай бог, — просто раздражающая идиосинкразия (резкое неприятие чего либо. — Правила жизни), которая, я надеюсь, однажды пройдет). Из последних радостей такого рода — «Дом правительства» Слезкина, «Опасные советские вещи» Архиповой и Кирзюк, «Страдающее Средневековье» Майзульса и коллег, блистательные книги Натальи Лебиной. Про Лебину, «Страдающее Средневековье» и Слезкина я в последнее время, кажется, все уши прожужжала каждому, кто попадался мне на пути и был готов поговорить про книжки. Лебина исследователь повседневности такого уровня, что, во-первых, ее книги оказываются совершенно захватывающим чтением сами по себе, а во-вторых, для любого, мне кажется, человека, интересующегося не просто историей России, а историей человека российского, его подлинной жизнью, эти книги оказываются своего рода путеводителями и проводниками. Слезкин же, например, среди прочего очеловечивает тех, кто делал революцию и строил ранний СССР; при всей своей монструозности эти люди у него — люди, он не пытается лишать их человеческих качеств и человеческих мотиваций. Для меня этот подход бесценен: мне кажется, писать историю без него — значит самим немножко становиться монстрами.
О классике
Я очень люблю «Капитанскую дочку» и время от времени к ней возвращаюсь. С годами я научилась видеть в ней не только захватывающий роман про живых людей, но и жесткую, сухую и требовательную сатиру, без которой пушкинская проза не была бы пушкинской прозой. Когда-то я могла перечитывать «Анну Каренину» едва ли не каждый год, а теперь уже не могу: она все-таки очень страшная, а я уже, наверное, в том возрасте, когда становишься излишне восприимчив к чужой трагедии. Мне так больно и так жалко главную героиню, что никакого чтения не получается — одно эмпатизирование. Но, может, и этот период кончится и получится перечитать еще. Я по ней скучаю, конечно.
О Библии
Я регулярно читаю Библию, естественно. Новый Завет для меня — книга про человека, который взял на себя немыслимую миссию и пытается с ней справиться сквозь страх, сомнение, муку, усталость, тревогу. Недавно я писала Саше Гаврилову, что перечитывала в очередной раз Нагорную проповедь — и опять подумала: как же у человека накипело-то. Иными словами, Новый Завет можно читать еще и как книгу про Человека, изо всех сил пытающегося сделать нечеловечески трудную работу. И от боли за него у тебя разрывается сердце, конечно. И, как в детстве, ты знаешь, что все кончится хорошо, — но как же дорого дастся это хорошо, и как же тебе больно и страшно за всех героев, пока история длится.
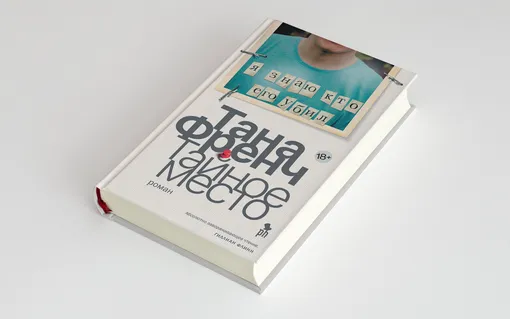
Чтение как лекарство
Я знаю, что есть книги, которые как-то глупо перечитывать, но очень хочется. Мое guilty pleasure (и заодно про прозу) — я смертельно люблю Агату Кристи. И время от времени, в какие-то совсем плохие времена, я берусь перечитывать ее романы про Пуаро и мисс Марпл, и это приносит мне несказанное удовольствие. Я вообще страшно люблю детективы, и если уж читаю прозу, то это детективы, конечно (мой второй маниакально любимый автор — Филлис Дороти Джеймс, я читала почти все, и тоже не по одному разу). Еще я люблю книги про подростков и в качестве того же guilty pleasure раз в месяц примерно проглатываю какой-нибудь англоязычный детектив о подростках. Они бывают очень яркими, жесткими и осмысленными. Вот недавно, зная, что я такое люблю, прекрасный издатель Алла Штейнман подарила мне детектив Таны Френч «Тайное место». И это было огромное удовольствие: книга оказалась плотной и в в самом лучшем смысле «про подростков». Я думаю, одна из причин моей любви к детективам про подростков (не путать с подростковыми детективами) — это тот факт, что здесь автору позволителен очень высокий накал драмы без того, чтобы у читателя создавалось впечатление, будто герои — инфантильные мудаки. Поступки главных героинь и героев достоверны и при этом еще и полностью эмоционально понятны именно потому, что читатель может представить себя в этом возрасте и идентифицировать себя с героем. Герои не инфантильны — они юны, а это тонкая грань, на которой автору далеко не всегда удается удержаться.
О поэзии
Основное мое чтение (из-за уже упомянутых проблем с прозой) — этот нон-фикшен и поэзия. Очень трудно говорить о том, зачем тебе поэзия; мне, наверное, затем, что это единственный известный мне способ думать и говорить о тех слоях реальности, до которых иначе не дотянуться, но если не думать о них и не говорить о них, их молчаливое присутствие тебя убивает. Для меня поэзия — это своего рода заклинание демонов: вот сонмы их за тонкой пленкой повседневного бытия, и можно просто пытаться не видеть, как за этой пленкой движутся их тени, а можно идти им навстречу, смотреть в глаза, называть по именам, вытаскивать по одному и хоть как-то этим усмирять — на пару минут. Я понимаю, что это не слишком ресурсная стратегия, но для меня она, вот такая, работает лучше, чем попытки делать вид, что демонов нет.
Мне всегда трудно отвечать на вопрос о любимых авторах, потому что в разные периоды моя голова вступает в отношения с разными авторам и с разными их текстами (и, видимо, с разными демонами). Это может быть текст Марии Степановой, Григория Дашевского, Станислава Львовского, Дмитрия Кузьмина, Ксении Чарыевой, Екатерины Соколовой, — или вот сейчас я прочитала прекрасную, совершенно прекрасную книжку Льва Оборина «Часть ландшафта», где выстраиваются совершенно поразительные отношения автора с окружающим его тонким миром как раз. Или, скажем, у меня долгоиграющие отношения с какими-то стихами Айзенберга, например — вот с этим:
Бесконечная волокита.
Кегельбаном гудит башка.
С неизвестным стою каким-то,
Подвигаясь на полшажка,
То в затылок, то вольной парой,
С неумытой стеклянной тарой.
Он таится — «себе дороже» —
и психует исподтишка.
Как-то кубарем расположен.
Будто вытряхнут из мешка.
Говорит: «Вот я был моложе,
Я такого имел дружка!
Золотого имел Сашка!»
В этом тексте для меня звучит совершенно невыносимой силы способность автора к очеловечиванию человека (простите, что это звучит тавтологией, но это на самом деле редкий дар, мне кажется: Михаил Натанович это умеет, а многие — нет).
О стихах как подарках
Один из авторов, которые для меня очень важны в последние 20 лет, — это Владимир Гандельсман. Каждое его стихотворение становилось для меня подарком. Помните, в детстве на твой день рождения собирались взрослые — и был кто-то, кто умел принести Настоящий Подарок, вещь, которая становилась твоим проводником в волшебный мир, с которой ты по-настоящему играл, и не просто играл, а с нее начиналась новая игра? Вот каждый текст Гандельсмана, который появляется в его фейсбуке (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), — это такой подарок, с которого начинается новая игра. Вот, например:
ЭЛЕГИЯ С НЕДОСТАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ
На отшибе дом викторианский,
Ракушки морской белей.
Пруд невдалеке, подёрнут ряской,
С цаплей одноразовой. Сарай.
Ранних подмороженных полей
Даль сердечной болью поверяй.
Дочь моя четырнадцатилетней
Девочкой стоит в дверях,
Угловатой, трогательной, бледной,
Несравненной. Дует из прорех.
И бесшумно громыхает страх
Будущего, как пустой орех.
Есть ещё соседка, та, которой
Нет на свете. В январе
Вдоль Гудзона пронесётся скорый.
Длись, заря, ты сокращённо — зря.
Пусть твоей потворствует игре
Снег. Ему всегда до фонаря.
Дочь. В руках стеклянная вещица —
Шарик. Беглый разговор.
То и дело взгляд её лучится.
То и дело взгляд соседки внутрь
Отступает, точит её хворь.
Холод просыпающихся утр.
С духом собираясь, кофеварка
Цедит кофе в тишине.
Радостно, печально, горько, ярко,
Непреложно. Изначальны дни.
Вдаль и вширь, в крови или вовне.
Всё запомнил? Боже сохрани.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
