Не так давно в американском Правила жизни вышел коллажный репортаж, по большей части состоявший из транскриптов сплетен бывших выпускников одного американского колледжа. Репортаж назывался «Тайная устная история Беннингтона», и он наделал в медийной среде много шуму лишь по одной простой причине: все эти бывшие выпускники беззастенчиво сплетничали об учившейся вместе с ними Донне Тартт.
Переводчица «Щегла» Анастасия Завозова — о том, почему экранизация великого романа Донны Тартт не удалась

Они все, конечно, пытались в режиме какого-то пристойного вербатима рассказать что-то о литературной среде восьмидесятых, о феномене колледжа, выпускники которого становятся писателями не только в мечтах, и вообще о том условно золотом времени, когда все заедали вдохновение наркотиками, потому что так можно было. Но на самом деле все они говорили примерно об одном: Донна Тартт существует, мы помним ее человеком. Они показывали редкие фото, цитировали ее письма, вспоминали совместные вечеринки, но все равно во всех этих воспоминаниях Тартт выходила персонажем собственного романа: огромный стимпанковский чемодан, вечеринки с мартини, непринужденная андрогинность, отточенный стиль, умеренное ницшеанство, внимание к деталям, любовь к моде, вакханалии в резюме. И все эти ее бывшие, а ныне совсем взрослые однокашники выглядели скорее свидетелями Донны Тартт, чем ее разоблачителями. Свои пять минут славы они использовали на то, чтобы поговорить о ней.

Итак, кто же такая Донна Тартт и почему все ее романы становятся огромными событиями в литературе?
Начать, наверное, нужно с того, что при всем обилии маркетинговых козырей у нее в рукаве (всегда накрахмаленном и с запонкой, разумеется) она ими почти не пользуется, как в принципе не пользуется современным медийным пространством, опровергая популярное утверждение о том, что себя в информационном потоке нужно непременно продвигать. Одна девочка не пользовалась инстаграмом (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), и никто так и не узнал, как она выглядит — в случае с Тартт эта страшилка XXI века не работает. Тартт пишет по книге в десять лет, появляется на людях примерно раз в десять лет тоже — для очередной фотосессии в идеальном костюме мужского кроя, а затем снова исчезает — писать очередной великий роман. И можно долго рассуждать о том, что стратегия затворничества тоже выгодная маркетинговая стратегия, однако тут, как мне кажется, все гораздо проще. Тартт пишет очень хорошие книги и свое мнение по всем вопросам, кроме собственных книг, держит при себе. Вот он, простой сложный секрет успеха.
На самом деле, конечно, главное тут то, что Тартт действительно великий писатель. Можно по-разному относиться к ее книгам, но в них есть то, что отличает настоящего писателя от хорошего ремесленника: магия текста, которая умеет говорить напрямую с сердцем читателя. Романы Тартт — и «Щегол» в особенности — сконструированы таким образом, что если уж в душе читателя происходит сцепка с текстом, то далее текст из этой души никуда не денется. Если подходить к книгам Тартт с какой-то технической меркой, с условным лекалом creative writing, то там можно найти какие-то огрехи: от затянутости до хмельного, разгульного эстетизма. Но ни один из этих изъянов не заметит читатель, на котором магия Тартт сработала, потому что переживание ее книг из чтения глазами тотчас же превращается в чтение глубоко иммерсивное. Самый главный писательский талант Тартт — это умение создать полностью трехмерную историю, в которой все расчерчено, выстроено и описано таким образом, чтобы создать у читателя полнейший эффект присутствия в тексте. И в «Щегле» это ее умение достигает каких-то невероятных вершин.
Сюжет:
Сырым апрельским днем 13-летний Тео Декер с мамой заходят в музей, чтобы скоротать время до головомойки, которая ждет Тео в школе. В музее в это время происходит взрыв, мать Тео погибает, а Тео, чудом оставшись жив, в состоянии шока выносит из музея любимую картину матери, последнее, о чем они говорили перед самым взрывом, — крошечный шедевр голландского художника Карела Фабрициуса «Щегол»...

Как это на самом деле работает?
1. Все свои романы Тартт пишет по 10-11 лет (поэтому их пока всего три), и это всякий раз чувствуется в тексте. Совершенно несовременная неспешность, с которой она работает над своими текстами, заметно уплотняет ее книги — не столько в объеме (хотя и это тоже), сколько в самой структуре текста. Например, из «Щегла» был вырезан побочный сюжет, над которым Тартт работала около года. Но его следы, некоторый его отпечаток сохранился в толще текста, и это — пусть и на подсознательном читательском уровне — и создает ощущение глубины. Грубо говоря, это тексты, которые пишутся без дедлайна на горизонте, и это роскошное, привольное ощущение огромного количества вложенного в роман времени помогает некоторой иммерсивности чтения, о которой было сказано выше.
2. Романы Тартт почти целиком существуют вне современности. Нет, в «Щегле», допустим, действие происходит в почти точно установленных 2008–2017 годах, но в тексте этого почти не ощущается. Герои Тартт живут в вечном 1850 году: они носят сшитые на заказ костюмы, читают Диккенса, увлекаются не блогингом, а древнегреческим языком или реставрацией старинной мебели, не пользуются соцсетями и вообще всячески стараются отодвинуть от себя современность, спрятаться от нее в мире старых вещей, предметов с историей и книг.
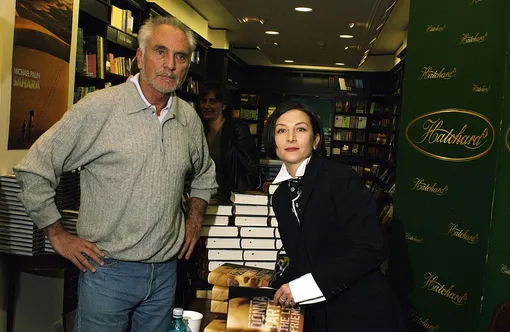
3. Вещи и вообще все предметно-осязаемое в романах Тартт — это то, вокруг чего вообще строится ее писательский стиль. Она описывает комнаты, стулья, столы, картины, одежду, ароматы, внешность, ветер, дождь, воздух, пейзаж, облака с таким въедливым вниманием, что сам текст того же «Щегла» постепенно окружает читателя так же, как потихоньку проступают из небытия все эти вещи.
Цитата: «Хоби, наоборот, словно огромное морское млекопитающее, жил и переваливался в собственном мягком климате, в коричневой тьме чайных и табачных пятен, в доме, где все часы показывали разное время, которое никак не совпадало с привычными часами и минутами, а змеилось вдоль своего же размеренного "тик-так", повинуясь течению этой запруженной антиквариатом заводи, вдали от фабричной, проклеенной эпоксидным клеем версии мира. Он обожал ходить в кино, но телевизора дома не было, он читал старинные романы с форзацами из мраморной бумаги: у него не было сотового, а его компьютер — бесполезный доисторический IBM — был размером с чемодан. В девственной тишине он уходил с головой в работу: гнул паром шпон или прочерчивал стамеской резьбу на ножках столов, и эта его радостная поглощенность делом подымалась из мастерской в дом и рассеивалась по нему, словно зимой — тепло от потрескивающих в печи дров».
4. Подробная детальность и пышная избыточность текстов Тартт напоминают работы литературных «старых мастеров» — от ее любимого Диккенса до Набокова. Например, «Щегол» содержит заметные следы «Дэвида Копперфильда» и «Подлинной жизни Себастьяна Найта» — у Диккенса Тартт берет им обкатанную историю непростого взросления; у Набокова — стилистическую млечность фонарей; у русских классиков в целом (вместо чеховского ружья в романе на стене висит топор Раскольникова) — привычку персонажей глядеться в мрак бытия до завтрака. Но все это вместе неожиданно не выглядит вторичным. Это не секонд-хенд-роман и даже не биоразлагание классики на полезные для нового века составляющие, это роман, продолжающий огромную традицию ненынешнего романного повествования, с долгими зачинами, поворотами сюжета, пейзажными отступлениями и «картинами милой старины».

Как же тогда сделан «Щегол»?
Самое простое и заезженное, что можно сказать о «Щегле» и что все о нем уже примерно миллион раз сказали, — это назвать его романом диккенсовским. На самом деле, когда говорят «диккенсовский», подразумевают «викторианский», и по структуре своей «Щегол», несмотря на приметы современности вроде Нью-Йорка, Вегаса и отъявленно русской мафии, все равно недалеко ушел от толстых романов, выходивших в XIX веке отдельными сериями в периодических изданиях. Здесь есть мальчик-сирота, огромный город, жестокие родители, девочка-ангел, добрый фей-крестный, неожиданное наследство, загадочная история, разбойники и рождественский завтрак в конце.
Возможно, поэтому, кстати, из «Щегла» вышел бы куда более уместный сериал, нежели экранизация, которая напоминает роман на ускоренной перемотке, двухчасовой буктрейлер к книге, набор оживших иллюстраций к чему-то более огромному. Кроме того, в экранизации нарушен самый викторианский принцип построения романа — прямая прогрессия, линия от детства к юности, от начала к концу. Книга устроена так, что мы проживаем все вместе с главным героем, двигаясь по истории так же, как он, — от завязки трагедии до ее почти рождественской развязки, сначала погружаемся во тьму, а потом оттуда постепенно выныриваем (или нет). В фильме же история нарезана на флешбэки, так что мы не погружаемся в трагедию постепенно, а, наоборот, периодически падаем в нее лицом вместе со взрослым героем, страдающим от произошедшей с ним трагедии, которую тоже режиссер заставляет нас принимать небольшими дозами, как рыбий жир.

Но главное отличие книги от фильма — это, разумеется, в том самом объеме, в плотности, которой в романе столько, что фильм неизбежно от этого страдает. То, о чем Тартт, с деталями, с подробностями и никуда не торопясь, рассказывает сто, скажем, страниц, в фильме занимает тридцать секунд и напоминает кусок сайта с кратким содержанием романов из школьной программы: убил старушку и долго мучился, украл картину, но потом положил на место.
И пожалуй, самое важное, что есть в романе и что начисто пропало из экранизации, — это вечная тема романов Тартт, о бесконечном, не поддающемся логическому осознанию ужасе чего-то по-настоящему великого и прекрасного. «Красота — это ужас», — говорят студенты из ее романа «Тайная история», имея в виду, что мы трепещем, преклоняемся в страхе перед тем, что обладает подлинной красотой, и в романе «Щегол» таким условным ужасом становится само искусство. Весь «мыслительный» скелет «Щегла» выстроен вокруг того, как легко, как совершенно магически нас меняет искусство, какой нечеловеческой силой воздействия оно обладает и как порой люди бессильны перед его зовом, как перед зовом сирен. В фильме же картина низведена до уровня объекта, который пропал и который надо бы вернуть, а то как-то нехорошо вышло, и весь трагизм сведен до более понятной утраты главным героем матери, и это если не упрощает всей истории, то убирает из нее всю вот эту многоэтажность и трехмерность, в которую читателя затягивает своим талантом Тартт. Линия красоты остается линией красоты, даже если ее сто раз пропустить через ксерокс, говорит в конце романа Тео его наставник и опекун Хоби, но эту книгу через камеру, как оказалось, все-таки пропустить нельзя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
