Трифон Бебутов: Я в случае с «Первым номером» человек пристрастный, так как сам главред. История Esquire, «Правил жизни» – все это переплетается. Мне интересны твои ощущения от «Первого номера». Что для тебя эта история значит?
«В театр приходят не за развлечением, а за разговором»: Евгений Цыганов — о рефлексии, «Первом номере», самозванцах и сказках

Евгений Цыганов: Изначально меня этот сценарий заинтересовал тем, что в нем есть ощущение времени в отличие от большинства других, которые я сейчас получаю. В нем нет ретрооттенка, он не отстраненный, не сказка. Хотя изначально он был, кажется, чуть ли не про «Птюч» или про другой глянцевый журнал начала нулевых.
Трифон: Про «ОМ», наверное.
Евгений: Или про «ОМ». Но потом авторы подумали: а почему бы, собственно, не поместить его в настоящее время? Это ведь все происходит на наших глазах – уходят франшизы, закрываются журналы, уезжают люди, которые ими занимаются. Мой персонаж тоже вполне узнаваемый — популярный лет десять назад писатель, который застрял в нулевых, словил звездочку, бухал, веселился. Так было с большинством моих друзей и знакомых. Да и со мной. Я тогда в какой-то момент поймал себя на таком ощущении: как будто мы сидим на вокзале и ждем поезда, а он все не приходит и не приходит. Уже утро, рассвет, мы пьем и продолжаем коротать время. «Ну, давай еще по пивку. Ну, коктейльчик давай закажем. Ну, пойдем пока в соседнее заведение». А поезда все нет и нет. Недавно у меня возникло чувство, что поезд пришел.
Трифон: А куда идет этот поезд? В каком направлении?
Евгений: Ответа нет. Но мы в нем. Жизнь, если в ней есть какое-то развитие, не дает тебе никаких гарантий. Но, с другой стороны, когда нет гарантий, нельзя остановиться и перестать думать: ты рефлексируешь, ты внимателен к происходящему, задаешь себе вопросы. Я вижу, что рефлексия накрыла и зрителей тоже, — в театр приходят не за развлечением, а за разговором. Вопросов много, ответов мало. А где их искать? В телевизоре? Идут за ответами к Чехову, Островскому, Пушкину.
Трифон: И классика становится опять актуальной.

Евгений: Наткнулся на фразу женщины-критика: «Я слышала сегодня стук сердца зала». Мне кажется, сегодня у людей нервы более обнажены. И когда ты заговариваешь на какую-то важную для них тему, по этому нерву проходит импульс. Да даже говорить не обязательно. Это называется: есть о чем помолчать.
Трифон: О культуре отмены, предположим, или даже вот о цензуре.
Евгений: Ну, мне кажется, что запреты у нас часто воспринимаются даже с некоторым ностальгическим умилением. Когда вышел закон о том, что в кадре нельзя курить, я достал сигарету на съемках, и ко мне подошли по очереди человек десять. «А вы знаете, курить-то нельзя!» Осветитель, звукорежиссер, реквизитор. И они это произносят с таким...
Трифон: Наслаждением?
Евгений: С такой радостью от этого знания!
Трифон: И вот в этом изменившемся мире, где все на ЗОЖе и ни про кого нельзя шутить, оказывается Константин Иноземцев.
Евгений: Да. Ну он, конечно, немного динозавр. То, как он живет, мы с другом в свое время называли «чемпионатом по саморазрушению». Кто-то этот чемпионат проиграл и вышел из гонки. А кто-то выиграл — этих людей с нами уже нет. Иноземцев — чувак, которого, по большому счету, уже не должно быть на свете или, может быть, вот-вот не станет. И понятно, что он свой ресурс уже растратил. Не то чтобы он борец, но смириться с изменившимся миром не может. Буковски писал: «В человеке самое главное – стиль, стиль – это все». Вот это чувство стиля у Иноземцева есть. Он говорит: «Я великий писатель земли русской». Ну не может в его представлении великий писатель земли русской завести жену и двух детишек и взять ипотеку. А брать деньги в одном банке, чтобы закрыть долги в другом, может, как и кататься на подаренной кем-то тачке.
Трифон: На «Гелендвагене». Мне, кстати говоря, очень понравилась эта деталь — что машину Иноземцеву дала любовница.
Евгений: Да. Когда на площадке появилась эта машина, я сразу Климу (Клим Козинский, режиссер «Первого номера». — «Правила жизни») сказал, что у Иноземцева не может быть такой тачки. Да, он любит пустить пыль в глаза, но он голодранец.
Трифон: И самозванец?

Евгений: Безусловно. Я хорошо знаю этот типаж. Талантливый чувак, который на волне успеха понимает, что развивать свой дар не имеет особого смысла, и скользит по поверхности.
Трифон: Испытывает ли он разочарование в жизни?
Евгений: Нет, это скорее презрение. Презрение, например, к работе как таковой. Можно написать новый роман? Можно. Но я лучше потусуюсь в баре. И расскажу всем о писательском блоке. Он либо в алкогольной эйфории, а в эйфории ты роман писать не будешь, либо с похмелья, в серотониновой яме, а там тоже не до этого.
Трифон: И вот судьба и обстоятельства вынуждают его шевелиться, и он попадает в это издание, в такую выхолощенную корпоративную структуру. И там начинает как бы крестовый поход против эпохи, против ее стерильности.
Евгений: Да. Он, конечно, самозванец и проходимец, но честный. Такой парадокс. Он патологический лжец, но очень честный лжец. Его презрение честное. Он видит человека и говорит как есть: «Этот человек — говно». Ему отвечают: «Это же женщина, как вы про женщину можете такие вещи говорить!» — «А женщина что, не человек? Вы что мне сейчас пытаетесь впарить? Эта женщина — человек, и как человек она полное говно».
Он все время выкручивается. Говорят, что на проходимцах мир держится. Иногда из этой легкости и беспечности рождаются даже какие-то гениальные вещи. Но это не главная тема, конечно. Главная — это его попытка убедить всех вокруг, что он чего-то стоит, и вместе с тем разобраться — а кто он вообще такой? Что для него по-настоящему важно и ценно?

Трифон: Можно ли сказать, что этот персонаж тебе импонирует?
Евгений: Скорее да. Мои друзья, друзья моих друзей — многие на него похожи. Такой человек может, конечно, исполнить какую-то чудовищную дичь, но, с другой стороны, способен совершить благородный поступок. Кто-то, может быть, ведет правильную, ровную жизнь, но пройдет мимо чужой беды. А такой оболтус не сможет пройти мимо. Ну или пройдет, но потом вернется и скажет: «Какого хрена здесь происходит? Почему двое бьют одного ногами?» Такой чувак с предпоследней парты. Таких пацанов, как правило, любят девочки, а отличники с первой парты им завидуют. «Иноземцев — вот он, блин, орел! Пока я тут на ипотеку впахиваю, он...»
Трифон: Летает как бабочка, жалит как пчела.
Евгений: Типа того.
Трифон: И вот такой человек приходит в этот журнал и сталкивается там с совершенно другим поколением, с зумерами. Ты сам в жизни чувствуешь эту поколенческую разницу?
Евгений: Ну, у меня старшие дети уже совершеннолетние. И я не чувствую дистанции. У нас есть интерес друг к другу. Я вообще редко встречаю людей, которые говорят, условно: «Ну ты, дядь Жень, конечно, не сечешь, ты вообще олдскул».
Трифон: Я имею в виду скорее какие-то принципиальные отличия. Вот есть такой стереотип, что люди нулевого года рождения, которым сейчас по 24, очень хрупкие, они не готовы ни к критике, ни к жертве, привыкли жить в коконе комфорта — например, хотят со старта немыслимых зарплат.
Евгений: Мне не кажется, что это поколенческое. Я и в своем поколении видел много очень хрупких людей и даже талантливых, у которых из-за этой хрупкости так и не получилось пробиться. Наверное, так было во все времена. Понятно, что мое поколение застало крах огромной империи, потом 1 990-е. Времена были голодные, родители умудрялись где-то картошки накопать и иногда добавить в нее масла, но и только. Сникерс, купленный на первую стипендию, который разрезался на много маленьких конфеток. Первый видеомагнитофон — ну, это был уже успех, награда за все преодоленное. «Видеомагнитофон! У нас! Боже мой! Мы успешные люди!»
Это опыт, безусловно. Но мне не кажется, что он особенный. У меня нет вот этого: «Сынок, да ты жизни не видел, жвачку из зубной пасты на батарее не сушил». Я дедовщину не люблю. Я вчера играл Образцова, у него есть фраза, которую я на сцене не произношу, но слушаю время от времени по дороге на спектакль. Его спрашивают, как он относится к молодежи, он говорит: «К хорошим ребятам отношусь хорошо, к плохим – плохо. Они же не с неба свалились, мы сами их такими вырастили». Он понимал, что на нем тоже ответственность. Я себя поймал на мысли: Образцов это говорит в 1986 году, а через пять лет начнутся 1990-е, и дети, которые выросли на его театре, будут стрелять друг в друга. Ходили они на его «По щучьему веленью»? Или не ходили?
Трифон: То есть читателя, зрителя нужно воспитывать, что-то ему прививать?
Евгений: Откровение заключается в том, что все, что мы делаем в театре или кино, как правило, про человека, про гуманизм, про сострадание.

Ну, казалось бы, что это за дурацкий аттракцион — одни собираются в зале или у экрана, садятся и смотрят, как другие что-то из себя изображают, проговаривая чужой текст? Но... Вот я сейчас смотрел фильм «Юг», там мальчик ищет своего отца. Ну что мне до этого мальчика и до его отца? Он вообще выдуманный. Но меня это трогает, я включаюсь, смеюсь над нелепостями, где-то начинаю сочувствовать и даже слезы подступают вдруг. И происходит удивительный процесс, который отличает нас от животных, – способность сострадать другому. Но у многих это чувство как будто атрофировано. И может показаться, что искусство – литература, кино, музыка, театр – совершенно бессмысленно, оно не работает.
Трифон: То есть можно сделать вывод, что искусство ничему не учит человека?
Евгений: Рядом есть еще телевидение, которое не только не учит, но и играет на каких-то противоположных чувствах. Типа «Дома-2» или всех этих бесконечных передач, где предлагается не сострадать, а подглядывать и осуждать. И часто под раздачу попадают весьма достойные люди и даже кумиры целых поколений. И это смотрят...
Трифон: Еще и оправдывают себя: смотри, мол, какой мерзавец, тварь просто. А вот я, по сравнению с ним, хороший!
Евгений: Ну, это еще кто-то из великих писал, что обыватель любит копаться в грязном белье небожителя и как бы таким образом опускает его до своего уровня: «Ты такой же, как я!» Врешь! Пушкин даже в своих грехах не такой, как ты.
Трифон: У моей бабушки есть про это история. Ее родственник был космонавтом, они как-то сидели на даче, на веранде, и что-то отмечали, а мимо шли рабочие. И говорят: «Что, Александр Петрович, выпиваете, как и мы?» Космонавт им тогда ответил: «Выпиваю! Но не так, как вы».
Евгений: Ты можешь сколько угодно говорить: «А! Девочку молодую себе нашел, вот старый козел!» Ну ты напиши хотя бы четыре строки не хуже, чем Бродский, сыграй профессора Преображенского, вообще что-нибудь сделай в своей жизни. Бродскому-то плевать, что его обсуждают, проблема в другом. Ребята, вас опустошили, вы не в состоянии воспринимать его поэзию, вы можете только читать желтуху о его жизни. Вы уже не можете смотреть «Мюнхгаузена» или «Обыкновенное чудо», вы думаете: «Янковский! Тут в передаче говорили, что он жене изменял! Или про Высоцкого говорили? Не помню, про кого-то говорили точно». У меня был случай как раз в нулевых — я сидел в кафе, чуваки за соседним столиком были из Болдино. Я говорю: «О, Болдинская осень!» Они: «Да мы ненавидим этого Пушкина, он полдеревни у нас перетрахал». Молодые ребята вроде бы. На вид не скажешь, что ущербные. Но вот как-то так.
Трифон: Возвращаясь к Иноземцеву и нулевым: он мечтает о чем-то, у него есть мечта или он вот тоже такой, опустошенный?
Евгений: Я думаю, что его мечта очень заспиртована. А так — мне кажется, что лучше кино посмотреть, зачем про него столько рассказывать.
Трифон: А у тебя есть мечта?
Евгений: Есть. Я сейчас приехал к тебе с репетиции моей группы «МЕ4ТА».
Трифон: А почему такое название?
Евгений: Чтобы перестали спрашивать: «А на фига тебе рок-группа?» Название закрыло все вопросы. Я мечтал играть музыку еще до того, как поступил в театральное. Когда мы не играем, мне становится как-то пустовато. Александр «Дусер», барабанщик Tequilajazzz, как-то сказал, что время, проведенное на рыбалке и в занятиях рок-музыкой, в счет жизни не идет. Сейчас у нас достаточно активный период — играем концерты, пишем новые песни, собираем альбом. Но это волнами. До этого года пару лет не играли совсем.
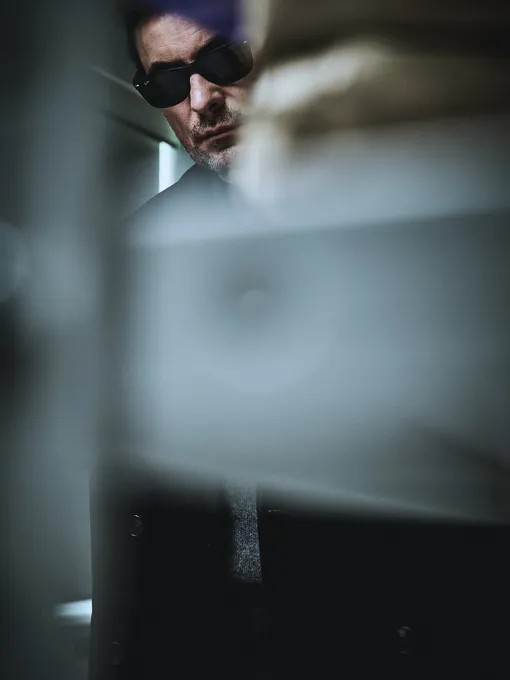
Трифон: Ты согласен, что музыка в стране переживает не лучшие времена? Все уехали, сцена опустела?
Евгений: Смотри, допустим, многие музыканты уехали. Можно сказать, что с музыкой в стране все плохо. Но пока они поют – и, кстати, как правило, на русском языке поют – и пишут новые песни, все не так плохо с русской музыкой. У музыки же нет территориальных границ.
Трифон: Как Шагал писал: «Мое отечество в моей душе».
Евгений: Да. И когда речь идет о гордости за свою страну, это и Шагал, и Барышников, и Бродский, и Рахманинов. Мы все равно находимся на подпитке одной сердечной мышцы. И скажу тебе больше — в творчестве все так или иначе питается всем. Песни «Утомленное солнце» не было бы без аргентинского танго. Не было бы Триера без Тарковского. Пушкина без его увлечения Шекспиром, например, или Байроном. Зачем упиваться этими территориальными разделениями? Мир и без того агрессивный: пожары, тайфуны, наводнения, вирусы.
Вот был ковид, люди говорили: «Ах, жизнь никогда не будет прежней! Сейчас все поймут, как нужно беречь друг друга, ценить живое общение, защищать природу, птичек, лосей!». Ну, прежней она не будет, допустим, но ковид закончился, и про этих лосей никто не вспомнил. Жизнь — такое у нее удивительное свойство — в любом случае продолжается, во всех своих проявлениях. Я это говорю в том числе и как отец восьми детей, который наблюдает, как они растут, заканчивают школу, начинают что-то пробовать, ошибаются, совершают поступки. Вот твой ребенок сидит картину рисует, или ты просто слышишь, как он классно что-то формулирует. Что может быть радостнее вообще? Не знаю, может быть, я мещанин. Но в какой-то момент, когда тебя перекрывает от потока новостей, ты смотришь на детей и думаешь: «А жизнь-то продолжается!» Вот она, жизнь, у тебя перед глазами. И она прекрасна. Они тебе говорят: «Сказку расскажи!» — надо рассказывать. Сил нет, настроение ни к черту. Ты вообще не умеешь рассказывать сказки, с чего вдруг. И вдруг садишься и начинаешь на ходу сочинять. И выясняется, что ты, оказывается, вполне себе сказочник.
