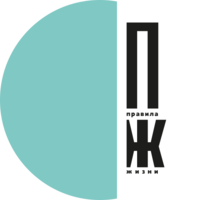Я придерживаюсь такой точки зрения, что театры не появляются по воле одного человека. Они появляются в силу каких-то загадочных обстоятельств. Если говорить пафосно — значит, что время пришло.
Правила жизни Дмитрия Брусникина

Театр — вещь невероятно подвижная.
Вспоминая свое школьное детство, я не могу сказать, что своему ребенку пожелал бы такого — смены коллектива в течение десяти лет семь-восемь раз. Это довольно сложно, сложно привыкать.
Я помню, например, когда мы переехали из Тамбова в Подмосковье, в Клин. Это был военный городок, а школа была в городе и нужно было ездить на автобусе — что-то час или час двадцать, а потом еще пешком идти. В первый день, когда я пришел в эту школу, ко мне подошел (до сих пор помню, как его звали) Вася, фамилия его была Гныб. Он подошел и отвесил мне два таких профессиональных удара, очень лихо. Это было такое посвящение в одноклассники. Потом мы с ним стали очень близкими друзьями. Меня посадили на последнюю парту, он тоже там сидел, и он был второгодник или третьегодник.
Когда родители узнали о моем решении поступать в театральное училище, это был для них абсолютный шок, потому что у нас в семье никто в этой области себя не пробовал. Хотя мама была человеком чрезвычайно ярким.
У меня в профессии не было разочарований. У меня просто разные периоды были в этой профессии. Сначала я работал у Олега Николаевича Ефремова. Он имел такой невероятный магнетизм! Он мог на министра культуры влиять таким образом, что тот открывал спектакли, ранее закрытые. То есть он имел какую-то невероятную магическую силу, и все мы попадали под его влияние.
Потом, когда не стало Олега Николаевича, был очень тяжелый период в моих взаимоотношениях с театром. Потому что он был для меня не просто учителем, а еще таким театральным отцом. Когда не стало отца, оказалось, что я совершенно не прикрыт. Я не находил места, поэтому ушел совсем в сериалы. И учился, на самом деле учился этой профессии. Я понимаю, что это производство, что это все невероятно компромиссно. Но я пытаюсь эту работу делать честно.
Какие-то поиски, какие-то эксперименты всегда связаны с тобой самим, с твоим кризисом. Я, например, всегда считал себя специалистом по Антону Павловичу Чехову. Мне казалось, что у меня с ним существует какая-то договоренность, что он разрешает мне работать с его текстами. Я чувствовал абсолютную уверенность в работе с этим автором, и вдруг наступил период, когда я растерялся. Я не знаю, как это делать. Как раньше, уже нельзя. Значит, надо думать. Но это же не проблема Чехова, это моя проблема.
Поиск новых форм в искусстве возможен через всё. Почитайте Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» и представьте себе, что сейчас выходит эта книга. Как бы ее встретили? Шок как минимум. Ограничений в искусстве нет. Дальше — дело ответственности художника, который работает с этим «мусором».
Наши классическая литература и драматургия всегда обращались к депрессивным состояниям: Чехов, Вампилов и так далее. Однако сейчас эта традиция приобретает более жесткие формы. Огромное количество ненормативной лексики. Я не знаю, что с этим делать, но анализировать это интересно.
Сегодняшняя востребованность документального текста в театре тоже объяснима. Это реакция на все то же бессмертное «не верю» Станиславского. Зритель перестал верить тому, что ему предлагают со сцены, поэтому нужна какая-то новая правда.
Все, конечно, очень изменилось. Если раньше фактура значила чрезвычайно много, то сейчас она все меньше и меньше что-то значит, а гораздо интересней наблюдать за личностью. Сам-то я теперь занимаюсь тем, что пытаюсь не найти роль для студента, а отыскать его личное проявление, то есть пытаюсь создать такие условия, где человек сможет проявить себя. И мне кажется, что самое интересное время — это то, которое есть сейчас.
Основная задача в педагогике вообще — это не-выставление себя на первый план.
Это большая беда, если человек (педагог. — Правила жизни) не пытается сам с сойтись с новым поколением, не пытается учиться у них и слышать их... Это не значит, что нужно, задрав штаны, бежать за комсомолом и пытаться стать 20-летним, вовсе нет. Но совместный язык надо искать.
На втором курсе наша мастерская всегда занимается Достоевским — это как раз тот автор, пройдя через которого студенты начинают понимать, что такое «тема», в познании театра начинают обретать почву под ногами. Если для англичан это Шекспир, то для русских актеров — Достоевский. Конечно, он дает «актерские мышцы».
Мне кажется, вообще театр — это такая институция, которая не может базироваться на традициях. Потому что мы запираем двери, ключи прячем и никого туда не пускаем, живем, не видя мира, не слыша жизни, и говорим: «Мы занимаемся искусством». Это, мягко говоря, обман. Никакого искусства не происходит.
Театр не может быть несовременным. Он не может быть музеем. И театр не может быть пропагандой. Театр должен анализировать. Театр существует для того, чтобы анализировать время и отражать его.