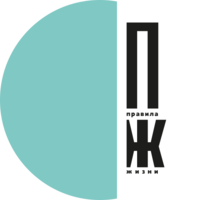Удивительный парадокс: татарская театральная традиция появилась относительно недавно, немногим более века назад, но Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала — старейший национальный театр в России: первый спектакль на татарском языке тут сыграли в 1906 году. Но только 80 лет спустя, в 1986-м, у него появилось собственное здание — модернистское, мощное, очень футуристичное. Строили его долго, с паузами, но постарались на славу: ярко-бирюзовая наклонная крыша (многие принимают ее за бассейн, но, по задумке архитекторов, это был парус) стала одним из знаковых ориентиров и достопримечательностей Казани, города, особенно тесно сопряженного с водными просторами.
Два востока: каким получился новый Театр Камала в Казани

Ледяные цветы
Поэтому когда региональные власти решили строить для театра новое здание (старое требует значительной реконструкции в силу возраста и к тому же устарело функционально) и объявили конкурс, задача у участников оказалась непростой: завязать визуальный диалог нового проекта с существующим, но не повторяться, «приземлить» идею на локальную почву, но не ограничиваться культурным наследием Казани. Буквально сделать что-то инновационное, но без отрыва от контекста. В конкурсе победил проект архитектурного консорциума в составе московского Wowhaus, японского Kengo Kuma & Associates, немецкого Werner Sobek и казанского ПТАМ Германа Бакулина — им удалось нащупать именно такую идею.

Так сложилось, что именно зимой 2022 года на поверхности Кабана распустились «ледяные цветы» — по крайней мере, об этом рассказывали. Это редкое эфемерное природное явление удивительной красоты: кристаллы льда формируют розетки, похожие на соцветия. Такое возможно только при совпадении многих условий: безветрие, резкое похолодание и большая разница температуры воздуха и воды. Вот звезда архитектурного мира Кэнго Кума и решил сохранить хрупкий феномен в монументальной форме: острые стеклянные треугольники, окружающие новый Театр Камала со всех сторон, — «ледяной цветок», который не растает.
Сам конкурс пришелся на начало февраля 2022 года, проект утверждали еще в одних условиях, а реализовывать начали в принципиально других. «Работу перестраивать не пришлось, у нас с самого начала изменилось все, — вспоминает сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро. — Мы вместе [с японскими коллегами] выиграли конкурс, а через неделю началось то, что началось. Честно говоря, мы были уверены, что никакого театра не будет — ну какой театр, когда такое время, — и очень удивились, когда проект все же подтвердился». Вызовом стал поиск всего необходимого внутри страны — от специфических театральных технологий до подрядчиков, способных сварить гигантские рамы для футуристичного фасада: «У нас есть консоль высотой 20 метров. Кто ее будет разрабатывать, сможет ли какой-то инженер ее просчитать, а предприятие — сделать, было вообще неочевидно. Но оказалось, что все возможно».

Сокровища озера
Человека, впервые переступившего порог нового театра, ждет тот еще визуальный контраст: граненое и ледяное снаружи, внутри здание оказывается золотым, полным округлостей и плавных кривых, залитым теплым светом. Это тоже неспроста: по легенде, на дне озера Кабан до сих пор лежат сокровища, затопленные во времена казанских походов Ивана Грозного. Вот создатели и «подняли» ханское золото, превратив легенду в интерьерные панели с затейливым узором.
Узор — вернее, узоры, потому что их тут много — заслуживает отдельного внимания. Орнаменты разработала народный художник Татарстана Наиля Кумысникова вместе с Джамилем Федотовым, использовав так называемый казанский, или татарский, шов. Это старинная техника соединения встык фигурных деталей из разноцветной кожи — так традиционно создавались сапоги, туфли, седельные сумки и другие аксессуары. Кумысникова использует технику для работы над интерьерными панно и арт-объектами, а теперь интерпретировала узнаваемые элементы для перфораций и накладок на стенах театральных холлов.

Холлы перетекают один в другой, внутри, в отличие от геометричного фасада, прямых линий будто нет совсем. Пространство спроектировано так, чтобы быть визуально проницаемым: 16 стен-лепестков направляют посетителей в один из залов театра, у каждого предусмотрено собственное фойе с буфетом. А за ажурной легкостью стен спрятаны все инженерные и технические коммуникации (на самом деле они имеют толщину более метра, хотя это и незаметно).
Над каждым элементом оформления работали месяцами, потому что технологии пришлось изобретать заново. «Сверху у нас легкие "паруса" — мы их называли "парусами". В театре есть свои нормативы — например, нулевая горючесть, то есть эти элементы должны быть сделаны из металла. А мы воображали их деревянными, к тому же размер у них до десяти метров, то есть вес соответствующий. В итоге подрядчики первый образец сварили буквально в гараже, и у нас получилось воплотить идею, — рассказывает Олег Шапиро и добавляет: — Так вот и рождаются инновации». В итоге в фойе и других общественных пространствах — отделка из светлого дерева, многослойные потолки, светильники из бамбуковых ширм. Визуально тут встречаются два востока — минималистичный японский и тяготеющий к роскоши татарский — и неплохо уживаются.

Форма и функция
Из-за сложной геометрии кажется, что залов в театре множество, на самом деле их четыре: Большой, Восточный, Универсальный и Камерный. Последний изначально не сценическое пространство, а место для публичных мероприятий — лекций, музыкальных выступлений, встреч. Оно небольшое, с панорамным окном во всю стену, и его можно трансформировать в зависимости от задач. Вообще, на трансформации рассчитаны и остальные залы: тут есть поворачивающиеся сцены, разборные трибуны, дополнительные зрительские места. Многофункциональность заложили изначально, потому что новый Театр Камала должен стать культурным и общественным центром, куда можно прийти отнюдь не только на спектакли.

В проектировании внутренней отделки залов на первом месте была именно функция, а эстетическая составляющая подтягивалась за ней. Так, почти полностью деревянный интерьер Большого зала напоминает нутро корабля: продольные рейки на изогнутых стенах и потолке похожи на шпангоуты. В изначальном проекте плавные деревянные поверхности должны были переходить на стены — оказалось, что «набрать плавность» можно только рейками с промежутками между ними. Но затем выяснилось, что решетчатые стены рушат акустику, звук уходит. Проект доработали, просветы между рейками закрыли контррейками внахлест — так удалось создать нужную акустическую форму.
В Восточном зале необходимое для правильной акустики покрытие заложили в концепцию изначально, и оно сработало. Зал по форме напоминает купол с круглой сценой посередине, а стены покрыты гипсовыми «монетами» на манер чешуи: каждая из, них весом 40 кг и диаметром около метра, сделана из гипса, имеет выпуклую, как линза, поверхность, за счет чего хорошо отражает звук. А еще серебристые «монеты» снова отсылают к ханским сокровищам и традиционным украшениям — ожерельям-монистам, широко распространенным еще на доисламском Востоке.


Театр для актеров
Мы привыкли приходить в театр как зрители — вечером, на пару часов, в наряде для особого случая — и поэтому не всегда задумываемся, каково проводить в нем целые рабочие дни, как делают это актеры, постановщики, гримеры, световики и другие сотрудники. «Театр — он не только для зрителя, но и для актера, поэтому в проекте так важен психологический комфорт, естественный свет, удобство в мелочах», — объясняет ведущий архитектор Wowhaus Ильяс Гильманов, открывая дверь в одну из гримерок. Внутри — уютное помещение с большими зеркалами, диванчиком для отдыха и панорамным окном с видом на озеро.
Это третья ипостась театра, скрытая от зрителей за футуристичным фасадом и ювелирно-золотыми фойе: километры коридоров и множество комнат, в которых рождается та самая сценическая магия. Это не только гримерки и репетиционные залы, но и столярная и слесарная мастерские для создания декораций, склад для их хранения, костюмерные. Интерьеры простые и продуманные: например, на полу мастерской — фанера, на которую можно сразу натягивать холст, разлиновывать, а потом ее легко заменить. А в отдельных гримерных, которые специализируются на париках, — ряды специальных шкафов для хранения реквизита. Все эти особенности архитекторы Wowhaus продумывали вместе с сотрудниками театра. Более того, актеры опросили заядлых театралов, что для тех важно при посещении, добавили собственные соображения и сформировали довольно сложное ТЗ, но архитекторы постарались ничего не упустить.

У театральных актеров есть поверье — в день спектакля не пользоваться лифтами, чтобы ни в коем случае не застрять и не пропустить свой выход на сцену. Именно поэтому личные гримерки заслуженных артистов находятся на первом этаже, там же, где и залы. Но основные помещения для сотрудников занимают третий этаж: тут есть и большие общие зоны отдыха, и детская комната, столовая. Некоторые зоны приватные, другие выходят большими окнами на общедоступную крышу-террасу. Так гости театра могут наблюдать за процессом подготовки, глубже погружаясь в атмосферу спектаклей.
«Это такой объект, который не может не менять город, — говорит Олег Шапиро. — Мне нравится метафора из астрофизики: большой объект деформирует пространство космоса, вот тут то же самое. Рядом уже продлили улицы, обустраивают территорию вокруг. Театр меняет гравитационное поле города в правильную сторону». И конечно, Казанью это влияние не должно ограничиваться. По словам архитекторов, проект Театра Камала — это «попытка объяснить миру, что татарская культура — не про выпечку, не про тюбетейки, а нечто большее». Насколько она удалась, лучше убедиться своими глазами, взяв билет на один из ближайших спектаклей (на татарском языке, с синхронным переводом на русский и английский), — это в любом случае будет расширяющий опыт.