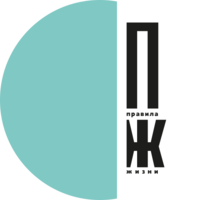5 апреля 1994 года, Сиэтл. Курт Кобейн уходит из жизни, оставляя после себя гитару, дочь, дневники, письмо, в котором цитирует Нила Янга: «Лучше сгореть, чем угаснуть», и пустоту, в которую культура снова аккуратно складывает романтику боли.
Клуб 27 — это не проклятие. Это зеркало

Понятие «Клуб 27» возникло после нескольких загадочных смертей известных музыкантов. Общество, журналистика, музыкальная индустрия объединили и связали эти трагедии. А их причины и одинаковый возраст принято объяснять гениальностью и мистикой. К этим событиями будто прикрепили ярлык магической цифры, сделав разрушение эстетическим жестом, а самоубийство частью образа.
Вообще официально «датой создания» клуба принято считать 1938 год. Тогда из жизни ушел блюзмен Роберт Джонсон. Однако череда и все большее обсуждение феномена начались в 60-70-х годах. Это время, когда не стало сразу нескольких икон рок-н-ролла. Брайн Джонс, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин. Все они были частью американской контркультуры: отрицали «старые» ценности, критиковали правительство, открыто говорили об алкоголе и наркотиках. Их уход из жизни был навеян множеством конспирологий и теорий. В одних случаях речь шла о проблемах со здоровьем, в других — обвиняли близких или спецслужбы. Так или иначе многие из этих историй были наделены домыслами и мистикой.
В 1994 из жизни ушел лидер Nirvana Курт Кобейн. Его смерть также не обошла внимание общественности и журналистов. Среди причин звучали и насилие, и заказ, и то, что музыканта якобы убило американское правительство. Первой историей в «клубе», не подвергшейся конспирологии, стала смерть Эми Уайнхаус. Здесь и публика, и экспертиза почти сразу же сошлись в одном.
Но чем дольше мы смотрим на список имен, изучаем биографии, тексты и историю, тем больше становится ясно, что дело здесь не в мистике. Известных музыкантов объединяла усталость и абсолютное одиночество. Все они отчасти просто стали жертвами публичной любви, которая на самом деле больше похожа на форму эксплуатации. В ней от них требовалось искусство, соответствие образу и красивое разрушение. Через тексты, грим, харизму и сцену.
В обществе принято говорить о гениальности как о проклятии. Этим же легко объяснять подобные явления и трагические уходы из жизни успешных молодых людей. Такая форма позволяет обществу не чувствовать вины и наблюдать за происходящим со стороны. Проще поверить в то, что Курт Кобейн не справился из-за своего дара, чем признать, что никто не дал ему возможности быть просто человеком. Без сцены, без мессии, без давления. Легче сказать, что Эми Уайнхаус «слишком сильно чувствовала», чем заметить, как годами её страдание превращалось в медийный продукт, граничащий с отчаянием.

Саморазрушение — не личный выбор, а общественный сюжет. Истории артистов из Клуба 27 часто подаются как личная трагедия. Но в действительности это повторяющийся паттерн. Эти люди не просто страдали — они страдали публично, регулярно, с одобрения. Их срывы были контентом. Их зависимости — эстетикой. Их боль — частью имиджа.
В культуре «десятых» тоже не обошлось без индустрии боли. Lil Peep, Mac Miller, Juice WRLD — все они повторяли лейтмотивы участников «Клуба 27», но уже говорили прямо. В текстах то и дело звучали слова о терапии, антидепрессантах, депрессии. Подобные смыслы звучат также, например, в песнях Billie Eilish. И все чаще речь идет не только о боли, но и об освобождении от нее. Например, в треке «Xanny» есть строчки: «Мне не нужны таблетки, чтобы чувствовать себя лучше». Но вместе с тем это все еще трагизм и боль, которые вызывают не сочувствие, а лайки, интерес и популярность. Культура «боли» все так же востребована, а исполнители уязвимы.
В индустрии есть принятие и правило, что в каждом поколении будет свой Кобейн. Гениальный, молодой, непонятый. Но все-таки современный уровень рефлексии, новое восприятие боли, а также стремление исполнителей говорить о проблемах открыто, дают надежду, что мистика «27» вскоре исчезнет.
Ведь сколько бы общество не рассуждало о том, что «Клуб 27» — это следствие индустрии, разрушительного темпа гастролей, гениальности и высокой задачи, в равной степени — это также вопросы ответственности публики. Давления или принятия артиста любым, осуждения и натиска или возможности оставаться живым человеком. Истории музыкантов, не доживших до 28, это отражение состояние общества, его холода, жадности и увлеченности. И современная эпоха «осознанности» и «эмпатичности» могли бы разбить этот круг непонимания и требовательности.