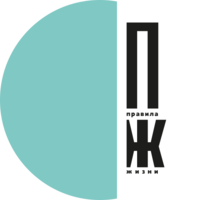«Я супергерой! Я супергерой!» — повторяет себе под нос заплаканная Айко (потрясающая Лаура Турсунканова), только что узнавшая о внезапной смерти отца. Довольно быстро выясняется, что внутренние силы ей нужны не столько для того, чтобы справиться с болью от утраты, сколько чтобы разобраться с образом еще живого отца, высеченного на ее сердце. При жизни родитель сумел построить более-менее нормальную семью только с третьей попытки и для каждой из своих жен был разным супругом. Айко и ее матери не повезло — с ними он был домашним тираном, ломавшим им кости и психику.
Рецензия на «Папа умер в субботу»: лучший дебют фестиваля «Маяк» вышел в прокат

Спустя много лет, оставив позади дом и болезненные воспоминания, 30-летняя Айко живет в Москве и работает художником по гриму в кино. По работе ей часто приходится рисовать на лицах артистов синяки и раны, в то время как отчаянно хочется замаскировать собственные внутренние травмы. Звонок от матери вырывает Айко из привычной жизни, вынуждая вернуться на несколько шагов и лет назад — туда, где было небезопасно, страшно и беспросветно. Но ведь Айко — супергерой, и, значит, поездка на похороны отца в родную казахстанскую деревню становится своего рода инициацией, по итогу которой Айко надо решить: оставаться жертвой отца-абьюзера или зарыть в ледяную землю не только его тело, но и горькую память о нем.

«Папа умер в субботу» — игровой дебют постановщицы Заки Абдрахмановой, выпускницы школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. До этого она выпустила свой авторский док «Мандарины» и была соавтором сценария сериала «Пингвины моей матери» Наталии Мещаниновой. С ее же творческим стилем в дебюте Абдрахмановой ощущается больше всего пересечений (а еще в обоих упомянутых проектах был задействован Борис Хлебников, которого Зака назвала «самым нежным злодеем — консультантом фильма»). Мещанинова в силу личного опыта (подробнее о нем она рассказывает в своей книге-сборнике «Один маленький ночной секрет») тоже часто разбирается в пыльных, неприятных и страшных шкафах своей семьи, набитых скелетами, тайнами и непроговоренными обидами. Проекты Мещаниновой всегда очень деликатны со своими героями-подростками, которых постановщица понимает так точно и без лишних усилий, что они всегда у нее максимально убедительные и трушные.
Абдрахмановой тоже удается достичь этой высокой степени достоверности: ее главная героиня Айко — вся как натянутая струна, готовая лопнуть в любой момент, но в этом нет театральной искусственности и музейной безжизненности. Айко — пылкая, колкая, резкая, но живая. Она входит в отчий дом, как в ледяную воду, от которой сводит скулы и замедляется сердца ритм. Но она героически выдерживает это испытание, справляясь со всеми его гранями: от болезненной памяти, которая бросается на нее здесь из каждого угла, потому что ею пропитан мир вокруг, и заканчивая остротами родственников — людей строгих традиций, для которых сухие правила важнее чувств близких.

С семьей у Айко особенно не ладится: казалось бы, главный злодей поражен, но с оставшимися живыми ничуть не проще. Мама с избегающим типом привязанности отказывается признавать глубину и масштаб травмы дочери, сбежавшей от дома как можно дальше, лишь бы не стать такой же: замазывать синяки от побоев и маркировать дисфункциональность своей семьи. Последняя жена отца (замечательная Самал Еслямова из каннской «Айки») вроде бы сочувствует Айко, но не знает, как к ней подступиться: та остра на язык и не позволяет к себе приблизиться, будто раненый зверь, в каждом видящий охотника. Но картина Абдрахмановой ставит героиню перед важнейшим выбором: превратиться от накопленной (и справедливой, оправданной) злости в волка-людоеда или все же дать ход внутреннему супергерою? Собственно, этот выбор хорошо знаком каждому взрослому человеку — без оглядки на количество и качество приобретенных против собственной воли травм.
На фестивале актуального российского кино «Маяк» Абдрахманова рассказала, что ее ключевым референсом был фильм «Король Стейтен-Айленда» Джадда Апатоу. Это такое же горько-сладкое кино про молодого героя, вмиг лишившегося отца. Скотт в исполнении Пита Дэвидсона (он очень хорош в этой роли) отчаянно пытается собрать по крупицам образ родителя, с которым больше не получится поговорить и у которого больше не выпытать ответов на все тревожащие вопросы. Для сослуживцев-пожарных умерший мужчина был отличным другом и героем, для мамы и сестры — хорошим семьянином, а для Скотта — полнейшей загадкой, обернувшейся неподъемным грузом на сердце.

Эта рифма двух разделенных несколькими океанами проектов фиксирует, как универсален опыт живых детей, оставленных наедине с амбивалентным, мозаичным образом их почивших родителей — те были слишком разными для самых разных людей. Но если снятый белым мужчиной-американцем Апатоу «Король Стейтен-Айленда» рефлексирует над болью персонажа в духе времени — Скотт старается забыться в наркотиках, опасаясь только полиции и передозировки, — родившаяся в Казахстане Абдрахманова снабжает историю частной боли опытом коллективной травмы. Она, в свою очередь, рождается из крепких и нетленных традиций: «бьет — значит любит», «не выноси ссор из избы», «слушайся мужа и отца своего», «терпи». Этот второй слой «Папы» делает картину больше и сложнее: бытовая травма разрастается до масштаба поколенческих и общенациональных бед. Этому следующему поколению в лице Айко нужно как-то этот проклятый цикл зла не просто отгоревать, но и по возможности на себе остановить.
И справиться с этой задачей в первую очередь берется кино, которое вслед за новостной лентой и журналистскими репортажами не боится четко и громко поговорить о проблеме домашнего насилия. Если важнейший позапрошлогодний казахстанский фильм «Счастье» («Бакыт») Аскара Узабаева был буквально беспроглядным (автор рифмовал непрекращающийся цикл абьюза с регулярными отключениями света, потому что зло вытесняет свет), «Папа умер в субботу» — кино иного свойства.
Картина Абдрахмановой смертью отца подводит невидимую черту, не выключая в кадре свет и не множа тьму. Напротив, фильм подсказывает путь выхода из опустившегося мрака. А это, в свою очередь, дарит надежду. Неважно, наследуем мы ген насилия или нет, — важно, что только нам решать, какого внутреннего волка мы вскормим: опасного людоеда или безобидно зверька, вырвавшегося наконец на волю.