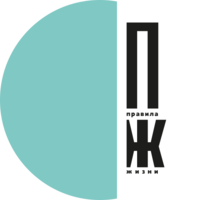Когда мне предложили написать о художницах русского авангарда, я поначалу растерялась: почему я? Не художник, не искусствовед. Человек, который слабо разбирается в изобразительном искусстве. Детский писатель с музыкальным образованием. Однако мне захотелось об этом рассказать — даже не то, что я об этом думаю, а что по этому поводу чувствую. Потому что тут работает не столько разум, сколько ощущения.
Золотое стечение: как женщины повлияли на становление авангарда


В начале XX века время стремительно ускоряется, оно похоже на огромное колесо, которое слетело с оси и несется неизвестно куда; по дороге с него разлетаются спицы, а колесо летит все быстрее. И люди будто оказались внутри этого колеса – вернее, тысячи разных колес, — слетевшего с катушек механизма.
Кажется, в такой ситуации можно только накрыть голову руками и спрятаться в шкатулку для пуговиц — может, и не заметят.
Однако были художники, которые воспринимали этот полет как освобождение, выход за пределы. Для них разрушение привычных стен было в радость – не о чем жалеть, зато теперь вокруг столько свежего воздуха! И они торопились дышать, говорить, работать, торопили время — успеть как можно больше. Как будто знали, что времени у большинства из них совсем немного.
В это удивительное, страшное и веселое время весь мир перетряхивался, перестраивался, разбирался на части — и в искусстве, и во всех привычных аспектах жизни. Может быть, поэтому женщинам-художницам не нужно было завоевывать, доказывать свое право работать и производить смыслы наравне с мужчинами. Бенедикт Лифшиц назвал их амазонками русского авангарда – и это выражение прижилось, однако кажется мне не совсем точным. Они просто пришли и заняли свое место — спокойно, по праву.
Ольга Розанова, девочка из тихого уездного городка Меленки. В десять лет она переезжает во Владимир, в восемнадцать — в Москву, учиться живописи. Через три года, в 1907-м, Ольга попадает в Школу живописи К. Ф. Юона — удивительное место, судя по тому, сколько значительных художников авангарда вышло оттуда. Вскоре энергия движения переносит ее в Петербург, там она знакомится с Давидом Бурлюком, с Николаем Кульбиным, Михаилом Матюшиным и Еленой Гуро. И вот Розанова оказывается в самой сердцевине этой грохочущей машины русского авангарда, она – один из главных его двигателей. Она участвует в создании Союза молодежи, пишет его манифест.
Хочется представить, как это все появлялось в их головах: привычный мир трещал по швам, а им хотелось только ускорить этот процесс – разнести все, что казалось затхлым, пыльным, гнилым. Разобрать до последнего винтика, разглядеть, из каких элементов состоит искусство. Что есть звук, буква, цвет в первоначальном виде? Искусство не должно банально изображать предмет. Оно должно вышибать эти привычные предметы из-под ног, оно должно вытряхнуть из человека его привычки, все устои и скрепы разобрать на запчасти. И заставить человека очистить свое восприятие, начать с абсолютного нуля.
Вот город, что в нем главное? Его звук, его запах, движение. Город меняется каждую секунду, не стоит на месте. Как показать все это на плоском листе бумаги? Как пейзаж перестает быть статичным? Узнаваемые черты сдвигаются, закручиваются спиралью; полыхающий пожар не столько страшен, сколько прекрасен: горит старое, дает свет, цвет! И даже слышно, как звенит трамвай.
Привычные бытовые вещи тоже разбираются на части; эти части сдвигаются, перемешиваются, их увлекает новый ритм. «Метроном» — работа 1915 года. Мы видим части прибора, видим внутренний механизм – шестеренки. Но метроном не разбит, он работает: мы вместе с ним отправляемся в путешествие – Америка, Бельгия, Англия, Голландия, Франция, Париж. Пульсирует время, ломаются буквы – открытки летят из разных уголков земли. «Уголки» — какое неподходяще пушисто-нежное слово. Тут должно быть жесткое, решительное – «углы Земли».
...В моем детстве грузик у метронома всегда разбалтывался, и в него вставляли спичку для фиксации. Поднимешь грузик – маятник работает медленнее, опустишь – ускорится. Но иногда спичка вылетала, грузик падал – и метроном начинал стучать как бешеный, вселяя непонятную тревогу. Хотелось немедленно все бросить, только бы остановить его.
«Метроном» у Розановой — именно такой, с вылетевшей спичкой, он торопится, ускоряет время — ведь его остается все меньше; и нет руки, чтобы остановить маятник.

Алексей Крученых разбирает на запчасти язык – рубит слова на звукосочетания, на буквы. Рядом с ним — Ольга Розанова, они в сложных отношениях, как пара магнитов, которых то толкает друг к другу, то разносит в разные стороны. И в этом магнетическом поле Розанова ищет сочетания букв и цвета; она иллюстрирует, даже создает книги вместе с Крученых, как полноценный соавтор. Новые книги, каких еще никто не делал: в них нет привычных историй или лирической поэзии. Нужно самому стать белым листом, а потом попробовать воспринять все вместе: буквы, шрифт, графику.
К красному сердцу пришита пуговица – значит, книгу нужно взять в руки, потрогать и понять, что это такое пришито сюда? Это игра такая или они всерьез? И где граница между игрой и серьезностью? И потом, это же абсолютно непрактично – штучный товар, не поддается тиражированию, каждую книгу приходится делать вручную. Неужели нужно было тратить драгоценное время? Однако им некогда думать о практичности – книги не продаются, не приносят никакого дохода, они не для этого.
«Синее на жести», 1914-й, — удивительное сочетание цветов; работа звенит, и даже в репродукции отчетливо слышен звук выгибающегося жестяного листа.

И Розанова приходит к цветописи — ее собственному изобретению. Да, многое она берет у Малевича. Тогда все увлечены его супрематизмом, у него многие берут (и попробовали бы не взять – Малевич выглядит довольно деспотичным учителем). Судя по всему, Розанова и Малевич влияли друг на друга – учитывая, с какой стремительностью она летела дальше, к собственным открытиям: цветописи, звучащему цвету, заполняющему пространство вокруг себя. Она мечтала рисовать светом – прожекторами в пространстве. Ее последние работы можно принять за американский абстрактный экспрессионизм, но он появится только через несколько десятков лет.
Кажется, Ольга Розанова могла бы выйти в четвертое измерение, если бы ее жизнь не оборвалась в 32 года. Оформляя к празднику Тушинский стадион, она простудилась и за несколько дней сгорела от дифтерита.
Если Розанова кажется кометой – вспыхнувшей и улетевшей, то Наталья Гончарова напоминает поезд. Уверенный, набирающий обороты – из его окон открываются разные виды, но внутри он несет себя, свое.
«Принцип движения у машины и у живого – один. А ведь вся радость моей работы – выявить равновесие движения».
Откуда среди этого раскачивающегося времени такое равновесие, такая уверенность? Возможно, от самой земли, из детства, из тульской деревни. Умение стоять на ногах твердо, чувствовать под собой опору. Одно из первых воспоминаний Гончаровой – весеннее: из лужи, из-под льда и снега – ростки. Земля всегда дышит работой.
«Дар труда,— пишет про нее Цветаева. — Труд дара».
Гончарова и Цветаева познакомились в Париже и сразу сошлись – и только там выяснили, что были соседями в Москве, в Трехпрудном переулке.
«Внешнее явление Гончаровой. Первое: мужественность. – Настоятельницы монастыря. – Молодой настоятельницы. Прямота черт и взгляда, серьезность – о, не суровость! – всего облика. Человек, которому все всерьез». (М. Цветаева, «Наталья Гончарова».)
Все всерьез, главное в жизни — работа художника, с детства. Это так важно, что даже гимназия дается с трудом, отвлекает. Там заставляют копировать образцы, Гончарова этого не выносит. Увидеть, запомнить, впитать, присвоить – и сделать свое.
Поначалу она поступает на отделение скульптуры. Ей нужно дело, и скульптура кажется настоящим делом, работой с материалом. И тут случается встреча с Ларионовым; он тут же заявляет ей, что ее дело – не форма, а цвет.
Гончарова поражена его уверенностью в том, что он сразу понял в ней – другом человеке; и скоро оказывается, что он понял в ней гораздо больше. Восемнадцатилетние, они сходятся и больше не расстаются; их имена всегда будут звучать рядом, однако каждый сохранит свое собственное звучание.
Удивительным образом на высокой скорости летящего поезда Гончаровой удалось пройти все станции ведущих европейских направлений: импрессионизм, пуантилизм, фовизм, кубофутуризм. И все эти «измы» здесь, дома, обретают именно свои собственные черты. Гоген, Матисс, Сезанн, Тулуз-Лотрек – их взгляд, их инструменты приняты. Запад дает энергию движения — и с ней Гончарова идет домой, возвращается в деревню. Вот полотняный завод — мытье холста, лен. Вот стрижка овец, вот деревенские танцы. Вот сады и цветы — удивительный, яркий мир работы, труда. Той работы, которая в радость, потому что иначе откуда бы столько цвета вокруг?
Город сначала кажется ей чужим, но потом Гончарова признает и его: движение, скорость города совпадает с ее темпом. Велосипедист летит по булыжной мостовой – и он сам весь скорость, сквозь него просвечивают городские вывески. Буквы на картине обозначают точку отсчета, они тяжелые, вещественные. Велосипедист же уверен в своем движении – сквозь них, мимо. Нам не важна цель его путешествия, точка назначения – само движение; велосипедист из начала прошлого века движется к нам, сквозь нас, дальше. Удивительно, как можно отразить движение на застывшей картине.
Впитав и переработав ведущие европейские тенденции, Ларионов и Гончарова изобретают собственный «изм» – лучизм: «Важен не сам предмет, а сумма лучей, исходящих из него». При этом у Гончаровой лучизм опять свой. Ларионов движется в сторону беспредметности, Гончаровой же важно, откуда идет луч. Ее «Лучистые лилии» узнаваемо предметны и при этом несут электрический заряд, пробивающий, выходящий за пределы простого изображения.
Возможно, лучизм развивался бы и дальше, однако наступает 1914 год, мир вокруг окончательно рассыпается, перестает быть устойчивым. Кто же сможет удержать его?
«Ангелы и аэропланы» – как они могут оказаться на одном листе? Железо и дух – кто кого защищает, и возможно ли это – защитить, уберечь? По крайней мере, известно одно: Ларионов возвращается с фронта тяжело раненным, но живым.
И тут в жизнь Гончаровой и Ларионова приходит театр: Дягилев предлагает им работу в Русских сезонах – самую масштабную, которую только можно придумать. Художнику нужно создать целый мир, собрать вручную – из всего, что видел, слышал, чувствовал. И потом привезти в Европу не просто спектакль, а целую страну.
«Так называемый "русский стиль" гончаровского "Петушка" до нее никогда не существовал. Все, от самого маленького орнамента на костюме до комических дворцов последнего действия, выдумано художником», – писал о ней Ларионов.
И действительно, то, что называется русским стилем в Европе, во многом создано Натальей Гончаровой вручную.
После Русских сезонов они с Ларионовым остались в Париже. «Хотела на Восток, попала на Запад», – скажет она. Жизнь в Европе оказалась уже не такой яркой и богатой, зато, в отличие от жизни многих коллег, – долгой; хочется верить, что не только трудной, но и счастливой. С Ларионовым они официально поженились только в 1955 году – через 56 лет после начала романа.
...В 2013 году я работала в оркестре театра им Н. Сац, мы участвовали в программе «Русские сезоны XXI века»: ставили «Золотого Петушка», «Жар-птицу» – балеты, восстановленные на основе тех, дягилевских, Русских сезонов. Мне повезло: из оркестровой ямы с моего места видно сцену; и это ощущение невероятной силы, поднимающей над землей, не ослабевало – и в Лондоне, и в Париже балеты имели невероятный успех. И я думала: что же это могло быть тогда? Тогда, сто лет назад, каким ураганным ветром казались эти русские спектакли? Что же за сила была у этого пламени, которое горит, не ослабевая, второй век?
...И совершенно непонятно, как в центре всего этого смерча, рядом с Розановой, Крученых, Маяковским, Бурлюком, Матюшиным оказалась Елена Гуро. Может показаться, что она — только жена Михаила Матюшина, однако это не так.
Елена Гуро – глаз тайфуна, центр равновесия и покоя посреди бушующих бурь. И в ней – сила нежного цветка, пробивающего асфальт.
Деревянный домик на Аптекарском острове (тогда – Песчаная, а сейчас улица Попова) становится центром русского авангарда. Тут ломаются на части слова, пишутся манифесты, наносятся пощечины общественному вкусу. Тут, в доме Матюшина и Гуро, собирается самый цвет авангарда – Розанова и Крученых, Малевич, Бурлюк, Маяковский. Никакие старые формы для этих людей недостаточны, они изобретают новое, первый футуристический театр – оперу «Победа над солнцем», синтез слова, музыки, формы. Матюшин пишет музыку, Крученых – слова, а Малевич именно здесь придумывает свой «Черный квадрат» – как декорацию к опере, как антитезу побежденному солнцу.

Что же среди этого делает Елена Гуро? Она ищет слова, звуки, краски – самые нежные, самые тонкие. Она наблюдает, как эти слова вырастают из земли – как цветы, как деревья. Ей не нужно ничего ломать, хотя она тоже пишет и рисует не так, как это было принято раньше. Деревья уходят корнями в землю, к ним хочется уйти от большого города, они знают что-то настоящее. Главное — услышать.
«Это делается так: ловят в засаду молодых светлых духов, длинноватых и добрых, похожих на золотистых долговязых верблюжат, покрытых пухом святого сияния. Сгоняют их в кучу, щелкая бичом, и нежные, добродушные создания... толпятся, теснятся, протягивая друг через друга шеи, жмутся о грубую загородку, теряя с себя в тесноте свой нежный пух.
Этот-то пух небесных верблюжат... и собирают потом с земли и ткут из него фуфайки» (Е. Гуро, «Небесные верблюжата»).
«Утро великана» — работа-загадка. Маленькие предметы на столе: чашка, фарфоровые собачки. Все это в нежном мерцающем свете. Где великан? Кто он? Ребенок, который еще не знает, что он мал и слаб, которого еще не отдали в учение, как несчастного Васю, который «стал молодцом» и лишился весны. Великан, который ценит драгоценную стрекозу, умеет молиться высоким елкам, ходит босиком по лесу и видит небесных верблюжат. Гуро часто говорит о детстве, но не об обычном детстве, часто полном обид, страхов и разных непонятных, но необходимых взрослым дел. О несбыточном детстве человечества, в котором ценна каждая капля росы, где можно смотреть, как цветок растет из семечка, где не нужно предавать себя.
«Мне уже тридцать четыре года, но я убежала от собственных гостей. Какое чудное чувство спасшихся бегством!.. В лесу — с каждым мигом ты все леснее».
Деревья — честнее и ближе людей.
Но рядом есть и люди – совершенно особенные. Вот Михаил Матюшин, человек эпохи Возрождения. Художник, музыкант, изобретатель. Тот, что побеждает солнце. На портрете Малевича Матюшин – пазл из разноцветных фигур, напряжение цвета и – маленькая деталь — замочная скважина закрытого ящика. Так просто не открыть.
У Гуро мы видим Матюшина со спины, он обычный человек – просто несет на подоконник цветок, высоко подняв его. (Этот портрет мне нравится больше, чем портрет со скрипкой, — тот, «артистический», кажется обыкновеннее, привычнее. А тут — цветок, большие руки музыканта, нежный свет из окна.)
Они были удивительной парой. И если вы зайдете в тот самый деревянный домик (он называется «Музей русского авангарда», но он же и музей семьи Матюшина и Гуро, таких удивительно соединившихся людей), то, возможно, почувствуете себя внутри глаза тайфуна. В тихой комнате внутри мчащегося поезда.

Видимо, люди, которые умели раскрыть уши и услышать ее небесных верблюжат, были Елене близки. Жаль, что Гуро прожила в этом доме совсем недолго – у нее была лейкемия и она умерла в 1913 году.
Я пытаюсь представить за одним столом Розанову, Крученых, Бурлюка, Маяковского — и Гуро. Не получается. Видимо, что-то для нас остается за закрытой дверью? Или эти бунтари, разрисовывавшие себе лица, не терпевшие старого мира, слышали в ней силу настоящего, чистого своего голоса? И она видела в них новое, то, что очищает мир от всего, что ей было невыносимо. Стремление к чистому звуку, чистому цвету.
Видимо, они сходились в какой-то дальней условной точке перспективы – хотя именно перспектива и не очень-то их волновала. Они были – про настоящее, про здесь и сейчас; разобрать, очистить и пересобрать заново. Гуро умела прислушаться и не пропустить.
Розанова писала в Манифесте Союза молодежи: «Мы не добиваемся того, чтобы нас помнили даже после смерти. Достаточно культа кладбищ и мертвецов. Но мы не дадим забыть себя, пока мы живы, мы будем без конца тревожить сон ленивых, увлекая все новые и новые силы к вечно новой и вечно прекрасной борьбе».
Призывы к борьбе в нынешнем веке воспринимаются без прежнего энтузиазма. Разнести все старое, построить новое на обломках — эта идея уже не кажется такой заманчивой.
Однако если память о них — не мертвая память, а живая, продолжающая будоражить, побуждающая искать новые смыслы, – все еще здесь, то, вероятно, и смерти нет. Зеленая полоса размыкает пространство и уносится в неизвестное будущее. Страшное и прекрасное будущее – оно неизбежно и бесконечно.