Как-то повелось, что предметы первой необходимости в нормальных условиях стоят дешево, а предметы, в общем-то, ненужные, даже вредные, или не стоят ничего, или стоят очень дорого. Например, картофель и макароны доступны всем, в отличие от кокаина и бриллиантов, притом что без кокаина и бриллиантов жизнь человека возможна, а вот без хлеба и овощей – нет. Но это в нормальных условиях. Когда великие бедствия и социальные потрясения уменьшают количество булок, драгоценности сильно теряют в цене, и догадливые пекари средней руки создают новые состояния из фамильных украшений уходящей аристократии.
Как формируются цены на искусство? Объясняет искусствовед
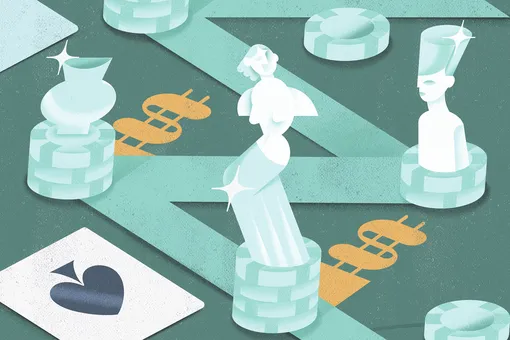

В случае преуспеяния общества роскошь (то есть предметы ненужные) является средством вложения капитала и главным отличием людей богатых от нищебродов. На заре культуры съедобный корешок или гриб, подобранный в лесотундре, ценился гораздо выше, чем цветные камешки и комочки золота, столь желанные при материальном благополучии. На исходе цивилизации бомонд высоко ставит предметы компактные, не имеющие практической ценности и очень дорогие.
Но как найти такой предмет? Первые два условия соблюдаются легко – маленький и никчемный. Но очень дорогой? Как убедить себя и окружающих, что подобный предмет – роскошь? Строительный алмаз для резания стекла не стоит ничего, а хранимый в банковской ячейке камень величиной с пробку от графина равен бюджету небольшой страны. Но как прийти к общественному договору о ценности предмета?
Алмазы уязвимы. Они должны быть редкостью, вот почему нельзя открыть им путь из нищей Бангладеш, переполненной каменьями. Также нельзя пускать в бриллиантовую огранку искусственные самоцветы, изобретенные в ФИАНе – Физическом институте Академии наук. Куда вложить средства несчастным миллиардерам?
Вот тут вспоминают об искусстве, лучшие образцы которого создавали художники, больше озабоченные мыслями о еде, чем проблемой вложения денег в роскошь.
Проблема в том, что искусство субъективно. То есть никто не знает, какова цена писофарта, поколе она не заплачена. Почему писсуар серийного производства не стоит ничего, если подобрать его на свалке, и застрахован на миллионы в Центре Помпиду? Потому что последний – это одна из восьми авторских копий произведения Марселя Дюшана «Фонтан», не допущенного на выставку в 1917 году и признанного в 2004-м главным произведением ХХ века (разбит фанатиком в 2006-м).
Цена шедевра зависит от двух критериев. Первый – это «рама». Вы заметили, что для того, чтобы восхититься прекрасным, нам нужно пойти в специальное учреждение. Такими являются консерватория, театр, музей. Особенно это важно в случае музея. И особенно — музея современного искусства. Проблема в том, что в раму в музее часто заключены предметы, окружающие нас в обычной жизни. Вот великий Энди Уорхол обожествил банку консервированного супа «Кэмпбелл», превратив ее в икону повседневности. А Рой Лихтенштейн заставил взглянуть на картинку из комикса как на высокую культуру. Вы покидаете музей современного искусства и видите то же, что и в музее, только без «рамы». Консервные банки валяются под ногами, на скамейке лежит забытый комикс, но это просто предметы быта, а настоящее искусство подчеркивает свою уникальность музейным местожительством.

Другой критерий — коммерческий. Цена искусства зависит не только от мастерства и таланта. Она обусловлена наклонностью художника и маршана к рискам. Разбогатеть при помощи искусства сложно (разбогатеть вообще непросто, как вы заметили), и тут есть два пути. Первый – мейнстрим. Ты очень хорошо делаешь то, что принято считать красивым, и занимаешь свое место на рынке прекрасного. Второй – авангард. Ты делаешь чтото, ни на что не похожее, и убеждаешь публику в том, что это искусство. Первый путь коммерчески надежен и зависит от усердия. Второй – рискован, но приносит в случае успеха несоразмерно большие деньги. Размер выигрыша как в рулетке: можешь потихоньку ставить на цвет, увеличивая (или теряя) выигрыш вдвое, а можешь поставить на число, тогда сорвешь в тридцать пять раз больше... Но надо быть совсем рисковым парнем.
Профессионалы способны более или менее уверенно найти коммерческое выражение возвышенного и прекрасного. Цена определяется на аукционе, а эстимейт (начальная ставка) зависит от исторической стоимости. Историческая стоимость – термин. Если предмет когда-либо попадал на торги, был оценен, куплен, деньги отданы и получены, что подтверждает документация, то его последняя цена – это его историческая (она же подлинная) стоимость.
Иными словами, если земной рай был продан за яблоко, то цена Эдема — яблоко. Если после Иуды никто не пытался перепродать Спасителя, то в цинических глазах аукциониста Его цена — тридцать сребреников, то есть одна четвертая цены раба в Иерусалиме I века нашей эры. Это значит, что цена шедевра вырастает в зависимости от того, как часто его продавали. Отсюда непонятный для обычного искусстволюба принцип — портрет Ф. М. Достоевского, приобретенный Третьяковым за шестьсот рублей, столько и стоит. А цена на современную «ерунду» может исчисляться недоступными воображению кучами золота, оттого что всплывала на аукционах, меняя историческую стоимость.

Ценность произведения искусства зависит от уникальности шедевра. Упомянутый Марсель Дюшан, великий хулиган-дадаист, заявил в начале ХХ века: «Хватит уже притворяться, будто у искусства есть будущее», снял с себя корону рисовальщика и занялся шалостями. Самые известные свои произведения он находил на помойке, куда они и вернулись во время войны, когда сестра художника квалифицировала их как бытовой мусор с нулевой исторической стоимостью. Впоследствии Дюшан воспроизвел их в авторских копиях. Например, «Велосипедное колесо», являющееся велосипедным колесом на табуретке, ныне экспонируется в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Центре Помпиду, Музее Израиля, Людвиг-Вальраусе, Художественном музее Филадельфии. Конечно, его ценность была бы несравненно выше, оставь Дюшан только один экземпляр, ведь уникальность – критерий ценности шедевра.
Но есть и кое-какие нюансы.
Зададим себе вопрос, является ли прекрасная умывальная раковина, выполненная фабричным способом, искусством? Ответ, кажется, лежит на поверхности: раз критерий искусства – это исключительность, то тиражированное прекрасное не может считаться прекрасным. Должно быть, первую умывальную раковину – ту, что создал дизайнер, – можно считать шедевром материальной культуры, но фабричное тиражирование – увольте.
В этом ответе есть свой резон, но разве нет исключений? По этой логике фильм, который сошел с монтажного стола, – исключительный шедевр, а его копии в прокате или в сети интернет – нет. А фотография – это искусство? Получается, с кинематографом и фото наше утверждение не работает.
А если взглянуть не в прошлый век, а в глубь веков —там совсем не было тиражированного искусства?
Вот, к примеру, утешительная находка для археолога — мегарская чаша. Это самая нарядная поделка древнегреческой культуры, когда Эллада миновала пору расцвета и стала клониться к «роскоши» для бедных. Сосуд для вина покрыт затейливыми рельефными узорами и выкрашен под бронзу. Выглядит дорого. На деле это ширпотреб. Такие изделия создавались матричным способом: с дорогой бронзовой чаши снимался слепок, а в него вмазывалась глина – так производились несчетные копии, которые выглядели как дорогая бронза, но были по карману простому народу.

Мы привычно восхищаемся статуями античной классики, в то время как от классической Греции до нас дошли только две великие скульптуры (вернее, скульптуры великих авторов). Все прочее – копии. Двадцать семь Дискоболов (все с утратами), почти полсотни Дорифоров (все неудачные), под восемьдесят Афродит Книдских (все неточные). А где же оригиналы? Мраморные потерялись во времени, часто пережженные христианами на известь, а бронзу переплавили еще римляне, обладающие даром превращать великое в полезное. Боги и герои, вывезенные из обнищавшей Греции, превратились в садово-парковую скульптуру для состоятельных италийцев. Уникальное стало массовым.
А вспомнить гравюру? Что же, в нашей первоначальной логике, это не искусство (поскольку лишено уникальности), а истинное искусство – это резьба по медной, стальной, деревянной матричной доске? Техника гравюры — искусство для бедноты. Первое назначение печатных рисунков – угождение пороку (рубашка игральных карт). Дюрер и Гольбейн придают печатному рисунку статус высокого искусства, но все равно это общедоступное искусство для широких масс.
Испанский мыслитель Хосе Ортега-и-Гассет диагностировал в 1930 году тенденцию европейской культуры, указующую на кризис, предшествующий закату. Эта тенденция обозначена в заглавии трактата – «Восстание масс».

Были художники, жившие в роскоши, как Рубенс и Тициан. Были те, что умерли в нищете, как Рембрандт и Саврасов. Среди деятелей профсоюза культуры случались богатые бездари и бездари невезучие. Стало быть, дело не в таланте. А в чем же? Печально признавать, но искусство зависимо от заказчика. Серов констатировал наличие двух синонимичных жанров. Например, портрет (то, что хочется изобразить живописцу) и «портрет портретыч» (картина по желанию покупателя). Но без «портретычей» выстоять в жестоком мире чистогана и наживы не удается, вот отчего в искусстве полно «пейзажичей», «натюрмортычей», а последнее время и «поп-артычей».
Формация средневекового феодализма стояла на пороке тщеславия — искусство принадлежало аристократии. Мадонны, все более похожие на венер, украшали герцогские капеллы, а писанные с любовниц венеры с ангельскими лицами облагораживали будуар епископов. Но в Новое время круг заказчиков сменился. Величественную пору гордыни теснила жадность – заправилами капитализма стали не те, кто родовитей, а те, кто богаче. Потребителями искусства стали купцы и банкиры. Жены и подружки в шубах и кружевах, столы, ломящиеся от яств, – пейзажи с собственными усадьбами стали пользоваться большим спросом, чем утонченные святые в изящных позах.
От художников потребовался новый аспект мастерства – разнообразие. Поколе заказчиками были сварливые сановники, живописцам можно было не утруждать себя выдумкой. Ведь пока ты проберешься из палаццо одного сеньора к другому (скорее всего, историческому сопернику первого), ты уже позабудешь, с каким именно лицом мадонна №1 тетешкалась с младенцем №1, и не заметишь, что образы детства и красоты переходят без дополнений из картины в картину. Пьетро Перуджино и Рафаэль считались в равной степени знатоками прекрасного, пока не встретились на противоположных стенах в Уффици. Тогда и стало ясно, что даровитый Перуджино эксплуатировал один и тот же образ женской красоты, а гениальный Рафаэль всякий раз придумывал новые.
Рост материального благосостояния приблизил закат европейской культуры, а вместе с ним закономерный спутник закатного искусства – тиражирование. Разбогатевший народ, готовый платить, требовал по праву своего. Если бы широкие массы мыслили в унисон, они сказали бы примерно следующее: «Мы тоже хотим жить! Мы пока еще не богаты, но уже не бедны. Мы тоже хотим ездить в собственном экипаже, пусть не таком дорогом, как конный (назовем его автомобиль). Мы тоже хотим замок с угодьями, хоть и небольшой (это дача). Нам тоже нужна красота, только хватит болтовни про уникальное искусство для избранных – пусть каждому достанется шедевр за умеренную плату!»
И конечно, мысль о практической ненужности искусства рассосалась сама собой. Искусство должно работать и приносить пользу. Ван Гоговы «Подсолнухи» придают уют туалетной комнате. Густав Климт золотеется на фарфоровых чашках. Клод Моне рассыпался по страницам перекидного календаря. Фуги Баха пищат телефонным рингтоном. У искусства появилось новое предназначение – оно создает комфорт, оно становится «удобным».
Но как именно высокая культура превращается в массовую и как происходит обратный обмен, когда ширпотреб наполняет коллекции яйцеголовых интеллектуалов, – это тема будущего разговора.
