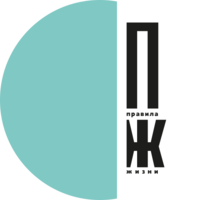«Скажи ей» — самый зрительский и трогательный фильм «Кинотавра» 2020 года. Это полуавтобиографичная история Александра Молочникова о болезненном разводе родителей и перетягивании ребенка, как каната. Папа Артем (Артем Быстров) — маргинального вида чудак, обожающий рок-клубы. Мама Света (Светлана Ходченкова) — красавица, влюбленная в американского экспата и оформляющая вид на жительство в США. Мальчик Саша (Кай Гетц) — жертва обстоятельств: родители пасуют его друг другу сначала через Неву, затем — через Атлантику, и только к середине фильма становится понятно, каково приходится ребенку и в несколько чуждом Новом Свете (где не принято давать сдачи школьным задирам), и в треснувшей по швам семье, каждый член которой готов перегрызть другим глотки за мальчика.
Парное интервью: Светлана Ходченкова и Артем Быстров отвечают на 10 вопросов об отношениях, детстве и семье

Родители Светы ведут успешную кампанию по подрыву авторитета Артема в глазах сына. С фланга Артема наступают бабушка и дедушка старой закалки. Дед (Алексей Серебряков) науськивает внука уехать с ними в Карелию и сообщить маме, что в США мальчик не полетит.
Критики любят проводить параллели между «Скажи ей» и «Брачной историей» Ноа Баумбака. Драма Молочникова выгодно отличается тем, что показывает внутрисемейные распри глазами ребенка, выступающего то объектом, то субъектом родительской войны.

«Скажи ей» сравнивают с «Брачной историей» Ноа Баумбака. Согласны ли вы с этим? Почему?
Светлана Ходченкова: Думаю, задачи найти общее между картинами не стоит. Во времена метамодерна любое коллективное сотворчество, как и положено, соткано из множества чего-то схожего, общего, когда-то увиденного или пережитого. История про развод супругов, когда в эпицентре событий ребенок, — таких историй не одна и даже не две. Поэтому можно в полной мере утверждать, что картина «Скажи ей» обладает не схожей ни с чем сюжетной линией, но каждый в ней найдет отклик. Я уверена.
Артем Быстров: Мне кажется, сравнение неуместно, потому что история каждой семьи, каждой пары сугубо индивидуальна. Как сказал Моцарт, нот всего семь. Сюжетов тоже не особо много — 32 или 33. Тогда можно «Скажи ей» сравнивать и с «Крамером против Крамера», и с «Американской дочерью», но зачем? Каждый фильм — особенный.
Что было для вас самым сложным в работе над фильмом? Возможно, какая-то сцена была эмоционально тяжелой?
С. Х.: Сюжет картины — рассказ с надрывом, где-то рыком, истериками и невозможностью персонажей услышать друг друга. Актер как проводник — пропускает это через себя. Поэтому когда ты сцену за сценой, дубль за дублем выворачиваешь себя наизнанку, а рядом прекрасный ребенок, который переживает, возможно, одно из сильнейших эмоциональных потрясений, и режиссер-перфекционист, — о сложностях не хочется говорить. Хочется говорить, как мы на время съемок стали одной большой семьей.
А. Б.: Сложнее всего было попасть в образ и находиться на площадке с актером-ребенком, потому что он непрофессионал. А что касается конкретных сцен — в фильме нет эмоционально нейтральных моментов. Каждая сцена отнимала много сил, особенно финальная — эмоциональный пик.

Как вы оцениваете поступки и поведение своих героев?
С. Х.: Не могу быть третейским судьей героям нашей картины. Когда ты фактически был неотделим от роли, то пытаться вынести какую-либо оценку своему персонажу — так нецелесообразно. Ты уже все прожил, прочувствовал. Теперь черед зрителей.
А. Б.: Знаете, есть такое выражение «актер — адвокат своей роли». Если бы я не нашел в себе сил оправдать своего персонажа, понять его мотивацию, попросту бы его не сыграл. Важно найти в себе точки соприкосновения с персонажем. Я — Артем Быстров в похожей ситуации поступил бы одним образом, мой герой — другим. Я — актер существовал ровно посередине.
Как вам работалось с юным актером Каем Гетцем, особенно на таком чувствительном материале?
С. Х.: Кай невероятный, правда. Я понимаю, что во время съемочного периода было сказано много комплиментов, на «Кинотавре». Саша Молочников, режиссер нашей картины, произносил слова восхищения Каем. Но все это правда. Он большой герой, Кай буквально вырос как личность за съемочный период. Мне было очень радостно наблюдать за ним.
А. Б.: Работалось в удовольствие. Кай — довольно самодостаточный парень. У меня был опыт работы с детьми в картине «Крики тишины», но там были совсем малыши. Тогда и понял, что важно находить особый подход к юным актерам. Мы с Каем были в связке. Играли, дурачились между дублями и находили общий язык непосредственно во время съемки. Нельзя же психануть, сорваться, накричать на ребенка — нужно объяснить: друг, вот тут у нас с тобой не получается это и это, давай соберемся, попробуем по-другому. Важно преподносить себя так, чтобы ребенок к тебе прислушивался. У меня, кажется, получилось.

Приходилось ли вам когда-нибудь в детстве отвечать на вопрос «Кого ты любишь больше — маму или папу»? Что вы чувствовали в этот момент?
С. Х.: Такая участь обошла меня стороной. Родители старались не втягивать меня в свои переживания.
А. Б.: Слава богу, мне повезло. Конечно, у родителей не все было гладко, но они никогда не ставили меня перед выбором, за что им огромное спасибо. Маму с папой я любил и люблю.
Каким было ваше собственное детство? Сталкивались ли вы с ситуациями из фильма в реальной жизни?
С. Х.: У меня было прекрасное детство, наполненное играми, кружками, приключениями, поездками, которые сопутствуют фантазийному миру детства. Сюжет фильма не имеет ничего общего с моим опытом.
А. Б.: Родители — огромные молодцы. Папа сказал, что мужчина должен быть сильным, и в 6 лет отдал меня на карате. А мама решила, что без музыки никуда, и в те же 6 лет записала меня в музыкальную школу. Так я и проездил до 16 лет: из общеобразовательной школы — в музыкальную, оттуда — на карате, потом — делать уроки и спать. Такой образ жизни мне, безусловно, помог: отвел от плохих компаний. Мы жили в спальном районе Нижнего Новгорода, где всякого хватало: некоторые мои друзья рано ушли из жизни, кто-то сел в тюрьму, кто-то ушел в армию и вернулся совершенно другим человеком. Я же всегда был при деле. Даже не замечал родительских ссор. Помню только, как папа после, видимо, скандала ушел из дома, но вернулся через неделю. Я даже ничего не успел осознать толком.
Помог ли фильм понять собственных родителей в каких-то моментах? Что вы поняли?
С. Х.: Когда человек взрослеет, очевидно, начинает осознавать своих родителей не как «особенных» людей, которые знают все и все умеют, а как отдельных личностей, склонных к ошибкам, слабостям, потерянности или же, наоборот, к невероятным поступкам. Думаю, такое понимание приходит со зрелостью ума, личностным ростом, а не после съемочной площадки. Скорее, после таких ролей ты чувствуешь профессиональное облегчение.
А. Б.: Мои родители умеют прощать. И я благодаря фильму понял, насколько важно уметь любить и прощать. Когда у тебя есть дети, твое «я» больше не на первом месте. Важно осознать, что и ради кого ты делаешь (иногда это расходится с собственными желаниями и целями, что тоже важно принять). Когда у тебя есть семья, ты больше не просто ты. Это надо всегда держать в голове. И еще — ни в коем случае не позволять, чтобы ребенок чувствовал себя несчастным.
Какой вы видите идеальную современную семью? Опишите ее портрет.
С. Х.: Как нам всем известно, идеала достичь трудно, но стремиться к нему возможно. Семья — кооперация отличных друг от друга личностей. И каждый человек разный. Поэтому невозможно представить рамки «идеальной семьи» и утрамбовать в них такое разнообразие характеров. Если мыслить гипотетически, конечно, каждый может быть способен уважать другого, быть реализованной личностью и уметь сорадоваться успехам или же сопереживать трудностям. Казалось бы, так просто, но на деле так сложно.
А. Б.: Генерал Лебедь (Александр Лебедь — советский и российский государственный и военный деятель. — Правила жизни) очень точно сказал, что идеальная семья — это когда муж храпит, а жена немного глуховата. Если отвечать коротко, то лучше я не сформулирую. Еще важно, на мой взгляд, слышать друг друга. У меня есть знакомые пары, в которых жена работает, а муж занимается детьми, и ни у кого не возникает комплексов. Эти люди не мешают друг другу и прислушиваются друг к другу. Вот вам и идеал.

Почему взрослые иногда ведут себя как дети?
С. Х.: Очевидно, потому, что они не повзрослели, не выросли ментально, не проработали взаимоотношения с родителями, не проговорили обиды.
А. Б.: Потому что все мы — дети. Я где-то слышал, что после 35 человек начинает чахнуть, угасать, не может испытывать таких же острых эмоций и переживаний, как в молодости. Начинает замечать все больше огорчающих, ужасающих вещей. Отсюда — апатия. Не совсем согласен с этой точкой зрения, но то, что взрослые устают, — факт. Устают от ответственности, от надобности принимать решения, ежедневно делать выбор. Поэтому и испытывают щенячий восторг перед несерьезными, казалось бы, вещами, убегают в детство.
Что сейчас происходит с институтом семьи, на ваш взгляд?
С. Х.: Как и все в этом мире, он трансформируется согласно новым условиям и нормам. Человечество меняется. Было бы странно, если бы формы и обличье союзов оставались архаичными, когда человечество несется вперед семимильными шагами.
А. Б.: Институт семьи и брака на Западе сходит с ума из-за новой искренности. Ничего не имею против, но, кажется, это пагубно для детей. Что касается России, у нас есть непоколебимые ценности, которые больше модных течений: семья должна быть счастливая, детей должно быть много. Мы в этом смысле как-то по-восточному мудрее. Институт брака не может устареть — в конце концов, это единственное, что делает нас людьми.