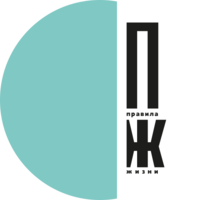Два года назад, когда память о финале «Во все тяжкие» была еще относительно свежа, коллегам из англоязычной версии Правила жизни первым показали приквел сериала — «Лучше звоните Солу». «Скажу прямо: я посмотрел несколько эпизодов — и они умнее и остроумнее, чем "Во все тяжкие"» — заключил критик Стивен Марч. Это заявление тогда казалось то ли издевкой, то ли вовсе ересью. У приквелов вообще плохая репутация, они в лучшем случае бывают чем-то милым, но необязательным, в худшем... ну, вы видели первые три эпизода «Звездных войн» – можно дальше не объяснять. И «Сола» хоть и ждали, но без особого энтузиазма — как дополнительный штрих для и без того великой истории. Но чтобы прямо лучше? В общем, критик Марч услышал в свой адрес больше критики, чем написал за всю свою жизнь. Сегодня же, спустя два сезона и две серии третьего, приходится признать, что Марч был, как минимум, не неправ.
Почему «Лучше звоните Солу» как минимум не хуже, чем «Во все тяжкие»


«Лучше звоните Солу» удалось изящно обойти самую важную проблему приквелов. Как известно, приквелы – лишь предисловие для какой-то более важной истории, а главное правило для любого сценариста заключается в том, что история, которую ты рассказываешь, должна быть главным событием в жизни всех героев (не только главного – а всех, кто оказался с ним на одном пути). В сиквеле этот нюанс можно обойти, можно перечеркнуть случившееся и сказать: но вот потом все было еще важнее и главнее. С приквелом так не выйдет. Создатель оказывается в ловушке, когда ему приходится признать, что нынешнее его произведение — совсем необязательно, что нынешняя история – лишь вспомогательная для главной, которую все уже видели и знают.

Вся вселенная «Во все тяжкие» (А «Сол», разумеется, тоже является частью этой вселенной) крутится вокруг Уолтера Уайта. Даже какие-то крупные события, которые происходили в этом мире (вроде авиакатастрофы в конце второго сезона) были завязаны на этом персонаже. Среди прочего, «Во все тяжкие» довели до логического конца идею антигероев, которой лет десять до этого бредило «престижное» (читай: кабельное) телевидение, от «Клана Сопрано» до «Декстера». История главного героя при этом была довольно простая: осознание близости смерти спровоцировало полное раскрытие личности и уничтожило все социальные и моральные тормоза, которые в течение жизни не позволяли ему быть таким злодеем, каким он стал в финале. С лишь небольшими и редкими флэшбеками сериал поступательно рассказывал и показывал, как скромный и робкий школьный учитель химии стал одним из самых опасных наркодельцов в США. А главное, почему в этой трансформации не было ничего такого уж удивительного: все данные были на месте с самого начала, потому что Уолтер, все-таки, личность неординарная. На то и герой, пусть и с приставкой анти.
«Лучше звоните Солу» никак со всем этим не спорит. Напротив, он будто пересказывает старый анекдот о том, как человек после смерти попадает к Богу и спрашивает, в чем был смысл его жизни. «Тебе это не понравится», — предупреждает Бог, но человек все равно хочет услышать. «Ладно, — говорит Бог, — помнишь, как ты в таком-то году ехал в поезде, зашел в вагон-ресторан, а там тебя один человек попросил передать сахар?» — «Помню» — «Ну вот». И Сол Гудман, конечно, из таких людей — ему просто надо передать сахар Уолтеру Уайту.
То есть, разобравшись окончательно с антигероями, Винс Гиллиган (создатель обоих шоу) принялся за «не-героев». В конце концов, в мире семь миллиардов человек, не может каждый быть неординарной личностью. С куда большей вероятностью каждый из нас родился просто для того, чтобы передать сахар.

Главный герой «Лучше звоните Солу» Джеймс Макгилл (нас знакомят с ним еще до смены имени на Сола Гудмана) достаточно взрослый, чтобы понимать, что он не такой уж и особенный, и мир вокруг него не вертится; что все в жизни достигается долгим и усердным трудом, что слава и богатство приходят не просто так, а только если годами ради них работать. И в то же время Джимми человек беспокойный: он всегда видит, где на этом длинном пути можно срезать, и не может удержаться от того, чтобы таким ходом не воспользоваться. Казалось бы, адвокат — идеальная работа для таких ушлых людей, но в реальной жизни работа юриста оказывается все тем же бесконечным перекладыванием бумажек и набором ограничений и препятствий. В итоге «Лучше звоните Солу» — летопись того, как именно в погоне за короткими путями относительно законопослушный Джимми Макгилл превратился в патентованного шарлатана Сола Гудмана. И это не история становления абсолютного зла, как в случае с Уолтером Уайтом, — это куда более тонкий и печальный рассказ о том, как мелкие детали накладываются одна на другую, как они накапливаются и набирают критическую массу.
К деталям, кстати, «Сол» очень внимателен: нам могут несколько минут показывать, как партнерша Джимми по бизнесу Ким не может выбрать между точкой, запятой или тире в небольшом юридическом документе, как долго и тщательно Джимми работает над мелкой аферой, чтобы насолить своему брату, как профессионально бывший коп Майк Эрмантраут выслеживает тех, кто пытался следить за ним. Злая ирония тут в том, что все эти ярлыки и срезы, обходы и лазейки — все они требуют не меньших, а то и больших сил, чем обычное перекладывание бумажек. Но так интереснее. Так можно чувствовать себя не просто одним из семи миллиардов, а кем-то хоть немного особенным.
За Уолтером Уайтом и его трансформацией наблюдать было, конечно, интересно, но очень сложно себя с ним идентифицировать — он все-таки и гений, и абсолютный злодей, и мощнейшая личность. Джеймса Макгилла же можно не только понять, но и прочувствовать. Одно из его главных отличий от Уолтера в том, что он искренне не хочет никому зла, у него нет того терминального состояния, когда «нечего терять», – он просто теряется в оттенках серого и не замечает, как они наслаиваются в иссиня-черный. Его путь куда сложнее и печальнее, потому что он не «герой» (или «антигерой»). В драматургическом смысле он просто персонаж, который должен в нужный момент передать сахар главному герою, еще даже не успевшему появиться на сцене. В чисто человеческом же плане он запутавшаяся человек, который хорошо понимает, что он — один из семи миллиардов, но никак не может внутренне с этим согласиться. А кто может?