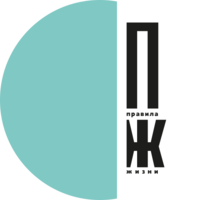Образцовый джентльмен в цилиндре с моноклем в руке и парящая бабочка по соседству — узнать в этих атрибутах маскота главного литературного журнала Америки нетрудно. Ровно 100 лет назад, 21 февраля 1925 года, его изображение украсило обложку первого номера еженедельника The New Yorker, который позднее назовут зеркалом жизни Нью-Йорка. Юстас Тилли — такое имя англичанину с карикатуры дал американский юморист Кори Форд — появится на обложке еще не раз и не два, а станет вечным символом издания и будет возвращаться в разных интерпретациях: то в образе современного американца, то в образе темнокожей женщины. В 2017 году на обложке, держа монокль и разглядывая лицо Дональда Трампа, даже появится Владимир Путин.
The New Yorker — 100 лет: краткий таймлайн журнала

Джентльмен с моноклем
Придумать обложку первого номера иллюстратора Ри Ирвина, который также создаст шрифт и другие важные элементы айдентики, а впоследствии займет пост арт-директора, пригласил Гарольд Росс. Именно этот американский журналист вместе с супругой Джейн Грант основал The New Yorker. Сделать это им удалось при поддержке своего друга-богача Рауля Флейшмана. Всю оставшуюся жизнь, вплоть до кончины в 1951 году, Гарольд Росс будет занимать пост главного редактора The New Yorker.

В архивах издателя сохранился единственный экземпляр анонса первого выпуска еженедельника от 1924 года. Гарольд Росс так описывал будущий еженедельник: «The New Yorker обогатит словесное и визуальное представление о жизни в мегаполисе. Он будет про человека. Его основной темой станут развлечения, остроумие и сатира, но это будет больше, чем шутовской проект. Он не будет, как принято говорить, радикальным и элитарным. Он будет утонченным, поскольку будет требовать достаточной степени просвещенности со стороны читателя. И он не потерпит всякую чушь. По сравнению с газетой, в The New Yorker будут скорее интерпретировать, нежели стенографировать. В нем будут публиковать фактуру, которую придется добывать из кулуаров, но это не будет иметь ничего общего с политикой скандала ради скандала и сенсаций ради сенсаций. Неподкупность вне всяких подозрений».

Свой путь к успеху
Как это часто бывает, одной идеи и амбиций было недостаточно, чтобы добиться авторитета на медиарынке. Первые шаги давались создателям с трудом. «Когда журнал был основан в 1867 году, у него было всего два подписчика, и оба они были редакторами», — писал Кори Форд в 1925 году. В те годы это был журнал, тон которого отличался беззаботностью и остроумием. Как писала редактор Сьюзан Моррисон, со страниц веяло «атмосферой веселья и светского кафе». Первый успех The New Yorker принес репортаж о знаменитом судебном процессе над обезьяной, опубликованный в 1925 году. Интерес рос и за счет привлечения к созданию текстов известных авторов из журнала Vanity Fair, который тогда пользовался успехом у американской аудитории.
И все же Гарольд Росс был не из тех, кто выбирает легкий путь. Редактор не хотел перегружать пул авторов громкими именами, взяв за правило судить материалы не по автору, а по содержанию. Все как в анонсе-манифесте. Постепенно Росс обзавелся постоянными писателями и художниками, которые составили костяк команды The New Yorker. Элвин Брукс Уайт, Джеймс Тербер, Питер Арно, Чарльз Аддамс — все они своей работой фактически формировали будущий образ журнала.

В те годы The New Yorker позиционировался прежде всего как журнал о культуре. Издатели ориентировались на публику, которая была способна оценить высокое качество журналистики. Журнал наполняли рассказы и романы, юмористические зарисовки и рецензии. Особняком стояли карикатуры — один из любимых жанров основателя журнала. Одна из культовых сатирических обложек, правда, появилась уже после его кончины, в 1976 году. В своей иллюстрации «Взгляд на мир с 5-й авеню» художник Сол Стейнберг откровенно высмеял ограниченность жителей Манхэттена.
Независимо от статуса исполнителя, со всеми своими талантами Гарольд Росс был одинаково непреклонен, требуя от них порой невозможного. Главреда запомнят как невероятно скрупулезного, педантичного и придирчивого профессионала, которому свойственно выверять все до последней запятой. В свое время большое влияние на него оказало эссе Марка Твена о литературных огрехах Джеймса Фенимора Купера, и он привнес твеновские стандарты наказания в редакторскую школу The New Yorker.

Новые времена и новые меры
В сороковые годы редакции пришлось не сладко. «Я по уши в дерьме из-за того, что половина сотрудников уходит на войну», — писал Гарольд Росс одному из авторов Александру Вуллкотту. Проблемы возникли еще и потому, что традиционный уклон журнала в сторону сатиры и беззаботного повествования не вписывался в тон, который задавали мотивы войны. Печать военного времени требовала серьезных, глубоких, всесторонних репортажей с поля боя. Гарольд Росс решился принять вызов и пригласил авторитетных авторов, в том числе военных корреспондентов.
Именно военный репортаж о последствиях бомбардировки Хиросимы, которому в редакции решат посвятить целый номер, произведет эффект разорвавшейся бомбы и скажется не только на будущем The New Yorker, но и на отношении читателей к журналистике. Истории героев репортажа американского журналиста Джона Херси станут откровением для американцев, которые мало что знали о последствиях бомбардировок, инициированных их страной. Текст продемонстрирует: если что-то и имеет смысл рассказывать, так это настоящие истории людей. В последующие годы The New Yorker сделает сторителлинг основой своего повествования и покажет этим пример другим изданиям. На ход с событийными номерами редакция The New Yorker также решится еще неоднократно. Отдельные номера будут посвящены смерти принцессы Дианы и главной американской трагедии нынешнего столетия — терактам 11 сентября.

Примечательно, что в середине 1940-х Гарольд Росс неоднократно предпринимал попытки привлечь в журнал Эрнеста Хемингуэя. До этого «папа Хэм» однажды появлялся на страницах еженедельника — в феврале 1927 года. Однако тогда решение было скорее вынужденным: только в The New Yorker согласились опубликовать его статью-пародию на рассказ Фрэнка Харриса, и Хемингуэй воспользовался этим шансом посмеяться над коллегой. Почему Хемингуэй больше не печатался в журнале, история умалчивает. По одной из версий, The New Yorker слишком мало платил. Документального подтверждения, что причина состояла именно в этом, впрочем, нет.
Через тернии
Реалии, которые привнесло послевоенное восстановление экономики, определили новый подход к наполнению журнала. Случился наплыв рекламодателей, и теперь с предельно сложными по форме и содержанию публицистическими материалами соседствовали рекламные объявления. В этот период редакцией заведовал Уильям Шон — старожил The New Yorker, который сменил на посту Гарольда Росса после его кончины. И хотя далеко не всегда Шону удавалось балансировать между документалистикой, выписанной до тончайших подробностей в лучших традициях The New Yorker, и рекламой, именно он в годы своей редакторской деятельности привлек к работе в журнале сильных и влиятельных писателей. При нем печататься на страницах еженедельника будут Джеймс Болдуин, Джон Макфи, Кэлвин Триллин, Джейн Крамер.

Стандарты редактирования, заложенные Гарольдом Россом, тоже никуда не ушли. The New Yorker, который еще при создателе прославился беспощадным отношением к авторским текстам, сохранил былую славу и после смены руководства. Доказательством тому служит весомый процент писем с отказами, адресованных как малоизвестным, так и именитым авторам, в архивах The New Yorker в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
В истории журнала был и не самый радужный период. Он наступил в 1987 году, когда сменился его владелец. По решению нового акционера на место Уильяма Шона поставили Роберта Готлиба, который не был в почете у коллектива The New Yorker. Экс-главред тогда даже написал сценарий черной комедии, где высмеял эти перемены и самого Готлиба. Продержался он ожидаемо недолго: уже в 1992 году на смену ему пришла бывший главный редактор Vanity Fair Тина Браун, которая сумела вернуть журналу крепкие позиции на рынке. Она же обновила коллектив авторов. Правда, сделать это ее вынудили обстоятельства: с ее приходом редакцию покинули многие из предыдущего состава. Положил конец редакционной чехарде, в которой успел принять участие Джон Беннет, приход в 2000 году Дэвида Ремника. Именно при нем The New Yorker продолжает доказывать миру, что качественная периодика никуда не ушла с приходом диджитал-технологий, а, напротив, переживает ренессанс.