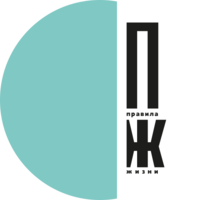Пожалуй, главное, что есть в азиатской культуре вообще, — идея, что все в этом мире так или иначе похоже на человека или напрямую связано с ним. Проще говоря, персонификация. В первую очередь это касается, само собой, животных, но не только. Самый простой пример — ками в синтоистской мифологии, аналог духов в прочих культурах, но с важным уточнением: это не духи как таковые, то есть некие бестелесные версии тех или иных существ, что остаются после смерти, а сущности, их олицетворяющие. Они могут быть и существовать вне зависимости от того, жив или мертв их «прототип», и, как правило, за ними «закрепляются» определенные территории и функции. Допустим, ками лесного медведя — он может быть как добрым, так и злым, может помогать человеку, забредшему в лес, а может ему навредить. При этом ками нужно уважать и задабривать: приносить им дары (а то и жертвы), соблюдать определенные ритуалы и просто чтить их нравы и законы.
Собраться с духами: чем японские и китайские сказки отличаются от европейских?

Другой пример — шэнь в китайской мифологии. Это тоже духи, причем добрые, и они также могут олицетворять как души, так и просто некие сущности, связанные с нашим миром. Вплоть до того, что под шэнь подразумеваются даже проявления определенных эмоций и психических явлений в человеке: например, те, что связаны напрямую со смелостью или, напротив, скромностью. Их противоположностью считаются гуй — злые духи, которые стремятся навредить человеку. Если шэнь относятся к небу, свету и порядку, то гуй — к земле, тьме и хаосу. Впрочем, и «злые» духи могут быть не такими уж злыми, если их задобрить; например, если человек совершил какие-то злодеяния, его могут преследовать гуй мертвых людей, которые пострадали от его действий.
Асуры в буддистской и индуистской мифологиях имеют разную интерпретацию, но и те и другие — низшие божества, духи, которые могут олицетворять не только (и не столько) людей и других существ, сколько проявление тех или иных качеств в человеке: например, гнев или какие-то желания. Нередко в азиатской мифологии духи бывают даже у предметов и каких-то природных явлений: тама у японцев — это и есть «душа», присущая всему, включая нематериальное (допустим, ветру и камням). Если обобщать, в азиатской культуре крайне распространена идея, что существует наш мир, материальный, а параллельно с ним — духовный, тот, в котором проживают незримые могущественные силы, способные повлиять на жизнь человека. Поэтому с почтением и уважением стоит относиться ко всему — не хватало еще плюнуть в ручей и разозлить тем самым его духа! А если учесть, что в азиатской философии еще и все циклично, прилетит за этот плевок если и не вам, то потомкам точно.

Как это проявляется в народном творчестве? Одна из самых популярных японских сказок — «Волшебный котелок», о тануки (енотовидной собаке), который попал в ловушку и был освобожден бедным мужчиной. Чтобы отблагодарить своего спасителя, ёкай (так в японской культуре называют всех сверхъестественных существ) превратился в чайник и принес новому хозяину тем самым немало пользы. Например, предложил отдать себя в услужение монаху, заплатившему за «чайник» деньги, но быстро убежал от него, когда тот попытался вскипятить в нем воду и поставил его на огонь. Впрочем, если здесь тануки выступает в качестве хорошего парня, то в другой сказке, «Храбрый заяц», он уже настоящий злодей: не только убил жену поймавшего его крестьянина, но и обратился в старушку, а из трупа сварил суп, который супруг убитой благополучно съел (и позже узнал об этом). Отомстить за убитого горем старика берется живший рядом заяц, который мучил-мучил тануки, да потом его и убил. Вот такой суровый нрав у японских сказок!
Сочетание наивного волшебства и жестокости — нормальное явление для азиатской культуры, в которой у одного и того же явления может быть и светлая, и темная сторона. Многие сказочные штампы и тропы азиатской культуры обыгрываются в сатирическом аниме «Хладнокровный Ходзуки» — истории о прислужнике бога ада Эммы, том самом Ходзуки, который цинично и жестко решает возникающие в царстве мертвых проблемы. Это отличный вариант познакомиться с азиатской мифологией: здесь представлено огромное количество сюжетов и существ из народного фольклора — например, заяц из сказки о зайце и тануки, который кажется милым, но обладает садистскими наклонностями. Вообще, персонажи и сюжеты из сказок часто проникают в популярные аниме-сериалы. Еще один невероятно популярный сюжет — о лунной принцессе Кагуя-Химэ, прибывшей на Землю ребенком, — нашел свое отражение в «Наруто»: Кагуей там зовут главную антагонистку.
Образ Кагуя-Химэ явно вдохновлен источниками из других азиатских культур — например, в Китае существует популярная легенда о Лунной деве по имени Чанъэ, которая прибыла на Землю со спутника. Интересно, кстати, что в японском синтоизме есть еще одна лунная мадам, но уже рангом повыше — Цукиёмо, женское воплощение Цукиёми, бога луны, который повелевает всем, что связано со сменой времени суток. При этом Цукиёми тоже появляется в «Наруто», но уже не как нечто персонифицированное, а как... особая техника для создания мучительных иллюзий, которые видит жертва, страдая на протяжении нескольких дней, — ее применяет один из главных злодеев аниме, Итачи Утиха. При этом жертва видит апокалиптическую картину: все вокруг заволокло красным, и на несчастного светит кровавая луна, сводящая его с ума.

А вот в китайских сказках, в отличие от временами довольно жестоких и неоднозначных японских, все, как правило, позитивно и понятно. В финале в абсолютном большинстве случаев побеждает добро, а злодей оказывается наказан, либо его как минимум приструнят. Простейший пример — одна из наиболее популярных китайских сказок, «Волшебная тыква». Главные герои — двое братьев: старший, ленивый, и младший, трудолюбивый. Они получили наследство от умерших родителей, но первый выгнал второго, забрав все богатство себе. Младший в итоге, трудясь в поте лица, чтобы выжить, находит волшебную тыкву, способную исполнять желания, с одним нюансом: у старичка, сидящего в ней, можно попросить то, в чем ты действительно нуждаешься, а не все подряд. В итоге трудяга начинает новую, сытую жизнь, а ленивый старший брат с женой, растратив все богатство, идет к нему побираться, находит тыкву, просит у нее много-много серебра и золота, которое позже превращается в камни. В гневе он разбивает овощ, а оттуда выпрыгивает тигр, от которого брату не удается сбежать (выход из дома завален камнями), и разрывает жадных супругов на части.
Пожалуй, безжалостный и кровавый финал — ключевое отличие азиатского сказочного текста от европейского (и там безумия достаточно, но все-таки поменьше, чем на Востоке). Стоит отметить, что европейский фольклор, как правило, куда менее религиозен: самые известные сказки базируются на поверьях, волшебных допущениях и прочих чертах именно что мифов. С азиатской культурой все несколько иначе: у тех же китайцев в древности на мифах и легендах строилась значительная часть духовной жизни. Народное творчество и вера в сверхъестественное — далеко за пределами монотеистических идей — формировали национальную религию, шэнизм, которая, в свою очередь, разветвлялась на множество других течений и сект в зависимости от региона. К слову, в XX веке новые власти, упразднившие монархическое правление, неоднократно пытались взять китайскую религию под жесткий контроль, из-за чего она неоднократно трансформировалась и перетекала в другие регионы — например, на Тайвань.
Сейчас тем не менее, несмотря на то что китайские власти держат распространение информации в ежовых рукавицах, все, что связано с религией и мифами и, в свою очередь, с народным творчеством, так или иначе проникает в повседневную жизнь. Вера в народного лидера не мешает китайцам верить и во что-то выше вождя: распространены три наиболее популярные религии — даосизм, буддизм (который делится еще и на китайский и тибетский) и конфуцианство; есть, впрочем, место и для других религий, включая католицизм и даже православие. В стране на данный момент существует 34 тыс. храмов, а культура пронизана наследием прошлого. Даже один из главных государственных праздников, Праздник середины осени, он же Праздник луны, который отмечается в полнолуние 15-го дня восьмого лунного месяца китайского календаря (то есть в 2025 году это будет 6 октября), напрямую связан с уже упомянутой богиней Чанъэ.

Поэтому закономерно в десятку самых кассовых китайских фильмов в истории входит, например, мультфильм «Нэчжа» 2019 года, сюжет которого основан на легенде об одноименном божестве из даосской мифологии, неугомонном волшебном мальчике, родившемся из волшебного лотоса. Кстати, свой Нэчжа есть и у японцев, что неудивительно, ведь в азиатской культуре разных стран можно найти много общего. Поэтому, например, он появляется в аниме «Судьба: Девочка-волшебница Иллия», где Нэчжа является одним из персонажей. Сам мультфильм основан на популярной мобильной игре Fate / Grand Order, разработанной в Японии.
К слову, об играх: еще один популярнейший персонаж китайского фольклора — Сунь Укун, он же Царь обезьян, главный герой классического романа «Путешествие на Запад». И он же является главным героем одной из самых громких и популярных видеоигр прошлого года — Black Myth: Wukong, которая целиком базируется на китайских мифах, легендах и сказаниях.
На двух примерах — японской и китайской культуры — интересно изучать, как отличается восточный подход к народному творчеству от западного. В нашей среде фольклор, как правило, тесно связан с дохристианским бытом — и, соответственно, все, что касается сказок, базируется в основном на языческих материях: колдовстве, волшебстве, поверьях. Религиозное, как правило, тщательно отделяется от сказочного. В Азии же, как мы видим, в сюжетах и персонажах из сказок божественное, мистическое и бытовое переплетены в диком коктейле. Элементы традиционной народной культуры проникают во все сферы жизни, поэтому даже в стране, идеология которой, по идее, отрицает саму возможность существования сверхъестественного (Китай), связь с прошлым через фольклор сохраняется. Как минимум через новые итерации привычных сюжетов и элементов в современной культуре.