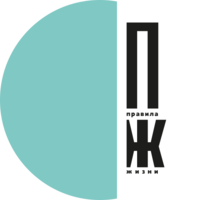Методом Проппа: что символизируют Колобок, Кощей, Дракон и избушка на курьих ножках?

Сегодня сказка — это волшебная история, не скрывающая своей вымышленной природы. Обычно она адресована в первую очередь самой юной публике, но народная сказка никогда не была сугубо детским жанром. Только литераторы эпохи модерна, будучи людьми либо просвещенными, либо богобоязненными, принялись создавать литературные сказки специально для детей.
Народные сказители не стремились защитить аудиторию от опасного или травмирующего контента. Самые мрачные сюжеты в народных сказках часто скрыты под масками не ради самоцензуры, а благодаря сложным механизмам замещения и подстановки.
Фольклорная сказка не предполагала ухода от реальности. В традиционной культуре сказка — ложь с намеком, история об опыте жизни и смерти, об устройстве мира. Сказка существует в тесной связи с мифом и содержит в себе универсалии культуры. В обрядах ключевые события мифа проигрываются в таинственной, художественно-символической форме: например, рождение и смерть Солнца, поединок героя со змеем, похищение невесты божеством.
Какие суровые подтексты скрываются в знакомых с детства сказочных сюжетах?
Колобок

«Колобок» — одна из первых сказок, которую слышат русские дети. Забавный шарообразный герой — метис среди хлебобулочных изделий. Бабка наскребла его по сусекам из остатков муки. Такие лепешки-последыши, сделанные из закваски разных видов, поднимались особенно хорошо и имели круглую форму.
Самая очевидная ассоциация с Колобком — умирающее и возрождающееся Солнце. Колобок катится, то есть движется под уклон, к закату и тьме, пока не гибнет, проглоченный лисой. Таким образом, путешествие Колобка — это история годового солнечного цикла и одновременно сюжет о конце мира.
В то же время авантюрная природа Колобка позволяет рассматривать его как бунтаря. Он выбирает стратегию ускользания: уходит от бабушки и дедушки и отвергает судьбу, о чем и поет в своей революционной песенке. Он не дается на зубок создателям и стремится отстоять свое «я». Колобок проявляет себя титанической фигурой, восстав против заданного порядка вещей, и в финале несет наказание за гордыню. Колобок избегает череды лесных зверей, но не может обмануть судьбу и встречает гибель.
Баба-яга
Баба-яга — один из главных хтонических персонажей русской сказки, она отвечает за таинство смерти и перехода в загробную жизнь — это основной архаический мотив. Из сказок «Баба-яга», «Василиса Прекрасная», «Гуси-лебеди» мы знаем, что старуха живет на поляне дремучего леса во вращающейся избушке на курьих ножках и промышляет каннибализмом. Иногда Ягу ассоциируют с древнеславянской богиней смерти. В то же время она обладает выраженными атрибутами матери-хозяйки: ступа, метла, налаженное хозяйство, покровительство животным.
По одной из теорий, земледельцы пришли на смену охотникам и очернили героев прежних культов. Так, лесной шаман превращается в злого колдуна, а госпожа зверей — в ведьму, которая питается заблудившимися детьми. Поэтому в пересказе земледельцев герои предыдущей религии предстают демоническими персонажами, которых побеждает положительный герой. Филолог и фольклорист Владимир Пропп отмечает, что тема победы над лесной ведьмой появляется лишь с приходом новых верований, превращающих «святое и страшное в полугероический, полукомический гротеск».

Природа сакрального противоречива — оно может быть как святым, так и проклятым, и Яга тоже двойственный и сложный персонаж. Она выступает антагонистом героя сказки, но может стать помощницей и дарительницей волшебного предмета. Так или иначе, после встречи с ней персонаж выходит обновленным. О связи с загробным миром говорит аномальная внешность Яги: костяная скелетированная нога, зачастую бесконтрольный рост частей тела («нос к потолку прирос»). Яга занимает всю избу, как мертвец заполняет собой гроб. Отвращение к русскому духу тоже признак близости к царству мертвых, где зловонным считается запах всего живого.
Инициация
Инициация — ключевой обряд для достижения зрелости в архаических обществах. В ходе инициатических практик мальчиков и девочек подвергают испытаниям, чтобы они могли войти во взрослую жизнь. След таких таинств очень заметен в славянском фольклоре.
Многие приключения в русских народных сказках начинаются с того, что дети убегают или изгоняются из дома. Аленушка и Иванушка отправляются странствовать по белу свету после смерти родителей. В другой сказке гуси-лебеди похищают братца и сестрице приходится бежать за ними. Схожим образом наши предки уводили посвящаемого юношу в лес, окружавший их поселение. Лес был одновременно источником ресурсов и темной опасности, символом потустороннего пространства.
Точное содержание обрядов хранилось в тайне, а в случае с народами, сохранившими традиции в наши дни, остается загадочным даже сейчас. Какими бы ни были испытания, они отправляли юношу в области, которые в буддизме называют бардо смерти. Подвергнутый побоям, порезам, воздействию галлюциногенных веществ и зачастую временно ослепленный неофит ощущал, что буквально побывал на том свете. Собственно, лесная избушка Бабы-яги напоминает именно такое место для ритуального уединения. В подобные жилища-гробы люди удалялись во время обрядов перехода, предполагающих временную смерть. Баба-яга не просто так кормит своих гостей и парит их в баньке: герой вкушает пищу духов, совершает ритуальное омовение и обживается в мире мертвых.

«Стоит избушка, а дальше никакого хода нету — одна тьма кромешная; ничего не видать», — говорится в сказке. Дом Яги обычно расположен на границе миров, словно пропускной пункт в загробное царство, а сама она — пограничник на входе в мир мертвых.
Один из важных древних обрядов инициации — переход в царство мертвых. Для совершения ритуала покойника зашивали в шкуру коровы, буйвола или другого животного — в зависимости от традиций. В одной из народных сказок этот обряд трансформируется в путешествие главного героя за тридевять земель в коровьей шкуре.
Кощей Бессмертный
Кощей Бессмертный — еще один неоднозначный персонаж сказок. Есть версия, что его имя происходит от слова «кость» — как и костяная нога у Яги, это символ разложения и смерти. Однокоренное слово «костить», то есть «бранить», напоминает о перемывании костей. Таким образом, Кощей имеет отношение к загробному миру, который предстает в сказках как пещера, гора или запределье, лежащее за тридевять земель, в тридесятом царстве.
Смерть Кощея отделена от него посредством сундука, зайца, утки и яйца. В яйце — игла, а на ее конце — Кощеева смерть. Существует очень древнее представление о яйце как о зародыше мира. Версия В. Н. Топорова, автора теории «основного мифа» (согласной ей, главный индоевропейский миф — поединок Громовержца со Змеем), гласит, что с разбиванием яйца уничтожается хаос, олицетворением которого служит Змей — Кощей.
В некоторых вариантах сюжета говорится, что в яйце заключена не смерть, а душа Кощея. В древних представлениях душа могла быть вынесена из тела или разделена на части из соображений безопасности.

Антрополог Джеймс Фрэзер предполагал, что в ходе инициации душа извлекалась и передавалась тотемному зверю. Например, у африканских народностей банту было четыре души, одна из которых, внешняя, представляла собой животное-хранителя. У карельских саамов рыбаки, уходя в море, оставляли часть души в каменном сейде, чтобы морское чудовище не поглотило их целиком. Вероятно, и колдуны всегда обладали особыми умениями в плане ее временного хранения.
Эротика
Еще один мотив Кощея — эротический. В сказках «Царевна-змея», «Марья Моревна» и других чародей падает с неба, похищает девицу и утаскивает в свои чертоги. В этих брачных притязаниях хозяина мира мертвых угадывается параллель с сюжетом об Аиде и Персефоне. Аналогом демонического похитителя в русском фольклоре часто выступает летучий змей — символический двойник Кощея.
По словам Проппа, умершим приписывались два главных инстинкта — пищевой и половой голод. Это соображение проливает свет на истории о чудовищах, совмещающие тему питания с эротическим влечением. «Схватил Змей царевну и потащил ее к себе в берлогу, а есть ее не стал; красавица собой была, так за жену себе взял», — говорится в сказке «Никита Кожемяка». Любовное похищение — своего вида смерть, ведь в ходе замужества девица умирает и рождается женщина. В свою очередь, погребальные обряды часто тождественны брачным: смерть виделась как брак с божеством смерти.
В сказках жених, как правило, отбивает невесту у Змея, однако предварительно Кощей — Змей все же удерживает ее в своем царстве. Основания такого «двоемужества» можно обнаружить в древних супружеских обрядах. Юноши и девушки в архаических обществах часто начинали брачную жизнь в святилищах или получали первое посвящение от жрецов, воплощающих божество. Впоследствии эфемерный бог сменялся супругом из плоти и крови. Одни авторы связывают эти практики замещения с приношением девственности в жертву, другие — с настороженностью, которую она вызывала. Есть версия, что этот обряд остался в феодальной культуре как право первой ночи.
Сказка Аксакова «Аленький цветочек» тоже пронизана эротизмом — достаточно вспомнить сцену похищения младшей дочери чудищем. История, рассказанная писателю ключницей Пелагеей, имеет далекие фольклорные корни. Это подтверждают параллели с сюжетом о красавице и чудовище и мифом об Амуре и Психее. Девушка оказывается во дворце чудища, который можно сравнить с домом тайных мужских союзов. Такие жилища для холостых мужчин существовали в первобытном обществе, где практиковалось разделение места жительства и труда по половому признаку. Участники таких домов проходили там обряды инициации и соблюдали тайные ритуалы. Постепенно мужские дома трансформировались в тайные сообщества. В мужских домах могли оказаться женщины, служившие братьям временными женами. Это соображение проливает свет на подтексты историй о царевне и семи богатырях или о Белоснежке и семи гномах.
Морозко
Иногда жертвоприношения не ограничивались временным служением. Самая длинная и темная ночь в году приходится на зимнее солнцестояние. В этот день славяне отмечали праздник рождения нового солнца взамен старого, завершающего свой цикл. Чтобы новое солнце точно появилось, необходимо было умилостивить духов зимы. Намек на события тех времен можно увидеть в русской сказке «Морозко», где снова прослеживается тема увода детей или оставления девушек в лесу. Собственно, Морозко, который потрескивает и делает носы красными, — это прообраз Карачуна, который, в свою очередь, является предком Кощея. Карачун — славянский злой дух и повелитель морозов. Карачуном же назывался и одноименный праздник зимнего солнцеворота. Древний Дед Мороз требовал от людей кровавых жертвоприношений, отсюда и появился красный мешок с подарками. В сказке «Морозко» благонравной падчерице удалось вернуться домой, а дурная и капризная дочь приехала в виде «косточек в мешке». Очевидно, символический брак с духом мороза был заключен успешно.